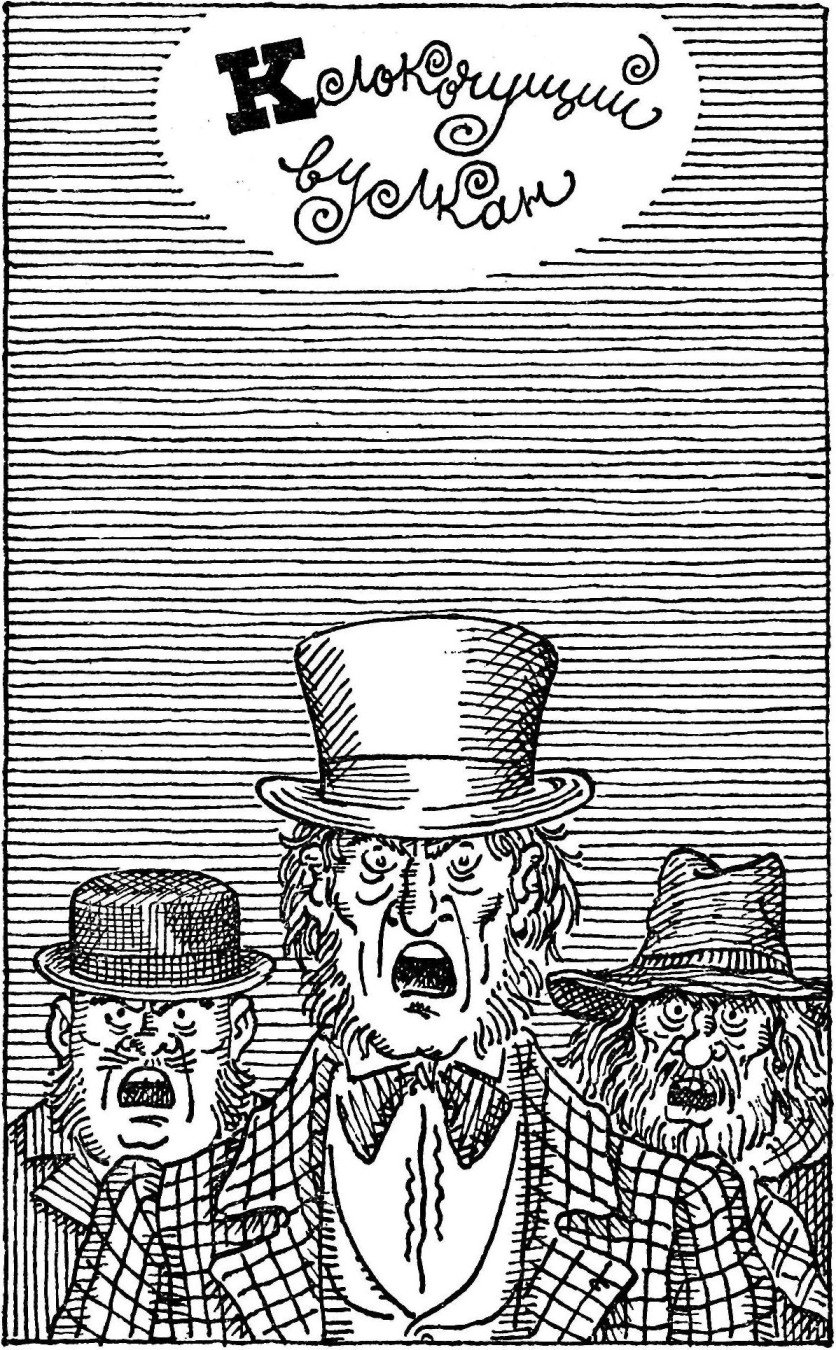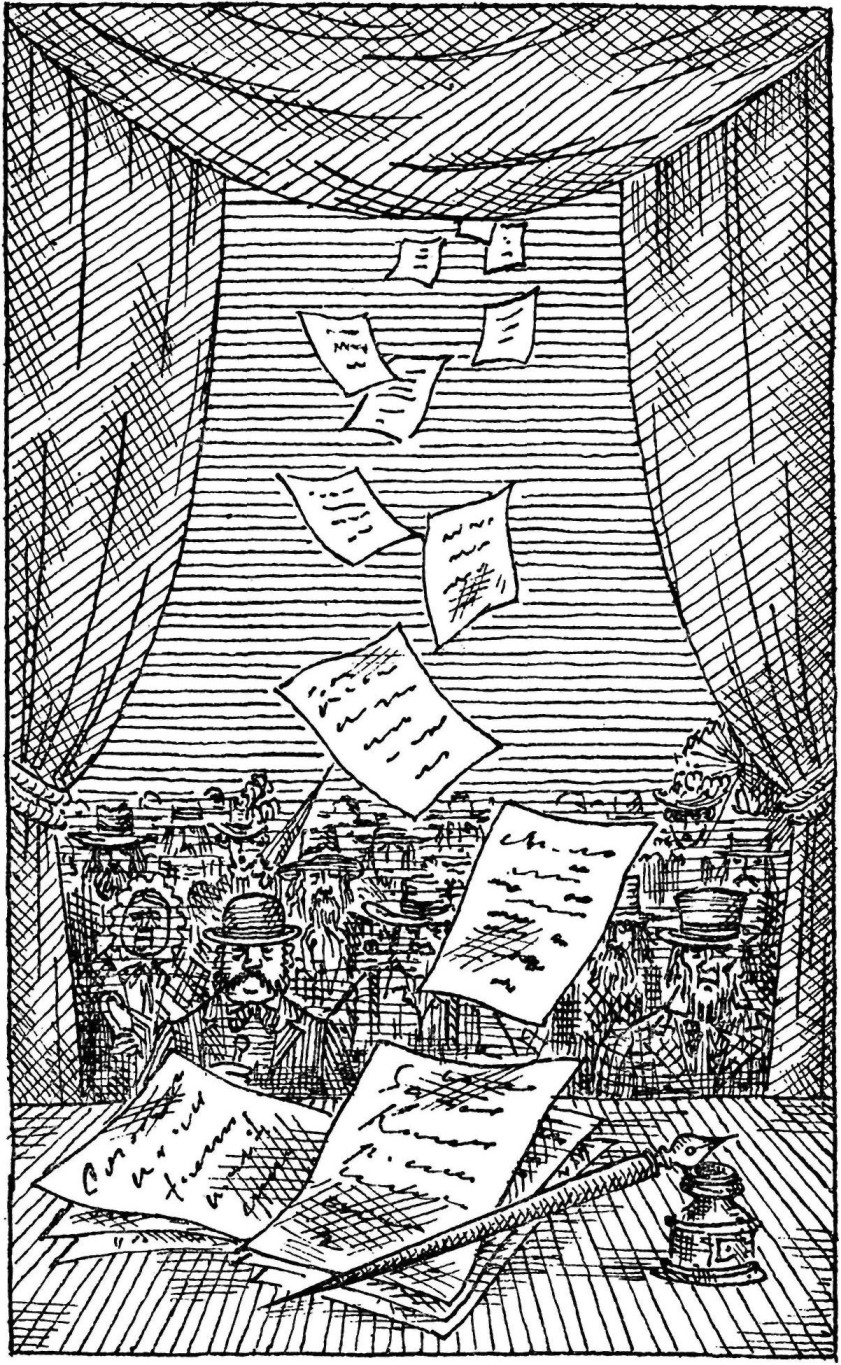Он писал «Жанну» в трудное для Америки время. Страна была охвачена экономическим кризисом. Газеты сообщали: безработных уже два с половиной миллиона, и это, очевидно, не предел. На занесенных снегом улицах перед запертыми фабричными воротами всегда дежурили оборванные, исхудалые люди. Полиция спешно пополняла свои боевые арсеналы. Опасались волнений и баррикадных боев.
Стояла зима 1894 года. Восемью годами раньше в день первого мая на Хаймаркетской площади Чикаго вызванные губернатором войска расстреляли рабочий митинг, вызвав мощную волну протестов, — так родился праздник пролетарской солидарности. А сейчас тоже следовало ожидать побоищ и расстрелов. Атмосфера накалилась. Твен с тревогой разворачивал газеты, сильно запаздывавшие к нему во Флоренцию.
Здесь Клеменсы жили уже давно. И не по собственной воле. Еще в 1891 году они покинули дом в Хартфорде, чтобы в него не вернуться. Дела семьи находились в тяжелом состоянии. Никто бы не поверил, что прославленному писателю приходится настолько туго.
Всему виной была наборная машина, изобретенная неким Пейджем.
У Твена еще в юности пробудилась страсть к технике. Он горячо интересовался каждым новшеством: первым из литераторов установил у себя домашний телефон, первым начал печатать рукописи на машинке, а исправлять их авторучкой, первым испытал фонограф, на который диктовал письма. Пробовал кое-что придумывать сам — то железнодорожный тормоз, то вечный календарь, то приспособление для склейки конвертов. Разработал проект магистрали от Стамбула до Персидского залива. Убеждал своих богатых знакомых поддержать польского инженера Щепаника, предложившего схему прибора, отдаленно напоминающего современный телевизор.
Эти затеи обычно кончались ничем, причиняя умеренный убыток. С печатным станком получилось иначе. Твен в молодости провел у наборной кассы не один десяток часов и знал, до чего это выматывающий труд. Идея Пейджа увлекла его бесповоротно. Но машина — чудо механики, как ее называл Твен, — упорно не желала работать. Требовались усовершенствования, а они стоили огромных денег. Так продолжалось много лет. В итоге у Твена не осталось ни гроша. А станок за сотню долларов приобрел один музей. Типографии предпочли одновременно появившийся линотип.
К этой неудаче добавился новый удар. Рассорившись с издателями, Твен решил создать собственную фирму. И не выдержал конкуренции, хотя пользовался необыкновенной популярностью среди читателей. Фирма обанкротилась, просуществовав всего несколько лет. Твен поставил целью выплатить ее долги до последнего цента. Он был честный человек. А поэтому — плохой бизнесмен.
В Америке конца прошлого века большие деньги делались быстро. Только для этого нужно было раз и навсегда позабыть о порядочности и о снисхождении к сопернику. Америка сильно изменилась, в ней неуютно чувствовали себя люди, воспитанные на старомодных понятиях нравственной обязательности и добрососедства. Теперь настали другие времена.
Твен нашел для них удивительно емкое и точное определение: «позолоченный век». Бывают в истории эпохи, справедливо именуемые золотым веком, потому что в такие периоды особенно быстро и плодотворно развивается наука, или философия, или искусство. Страна переживает свой расцвет, и об этой поре еще долго вспоминают потомки. После Гражданской войны судьбы Америки переломились, и для нее словно бы вправду началось новое летосчисление. Кому-то — даже многим — казалось, что произошел долгожданный взлет, настало время процветания и счастья.
Но это была иллюзия. А в действительности век был не золотым. Именно «позолоченным».
Позолота способна скрыть любое убожество, любую нищету. Невнимательному наблюдателю тогдашней американской жизни открылась бы картина самого бурного прогресса. Как на дрожжах росли города, заводы, электростанции, стальные нити рельсов тянулись через недавнее безлюдье, огромные пароходы каждый день высаживали на морских пристанях тысячи иммигрантов из всех стран света.
Безвкусная роскошь особняков и поместий новоявленных богачей должна была наглядно убедить, что деловая хватка и напор обязательно вознаграждаются в этой стране, будто бы всем предоставляющей равные возможности — сумей только выиграть в бешеной гонке за миллионом.
Ну чем не золотой век! А чуть поодаль от дворцов лепились лачуги рабочих предместий и дети копошились в непролазной грязи среди отбросов. Статистика свидетельствовала: каждый четвертый житель Америки голодает, каждый шестой — недавний переселенец из Старого Света или из Китая, заведомо лишенный возможности подыскать сносную работу. Периодически разражались скандалы, в которых были замешаны самые достопочтенные американские граждане, на поверку оказывавшиеся взяточниками и мошенниками. Даже Генри Бичер — знаменитый проповедник, брат той самой Гарриет Бичер-Стоу, которая написала «Хижину дяди Тома», воспламенившую сердца либералов и противников рабства, — запятнал себя, погнавшись за бесчестными деньгами. Богач Гулд подкупил его, вручив кругленькую сумму за обещание рекламировать с кафедры и с газетной страницы акции Северной Тихоокеанской дороги.
Этого Гулда Твен особенно не выносил, считая олицетворением вульгарности и порочности «позолоченного века»: «Раньше люди всего лишь стремились к богатству, он же их научил простираться ниц перед богатством, боготворя миллион, словно идола». Все раздражало писателя в его родной стране, которую он переставал узнавать по мере того, как год от года стремительнее становились ритмы капиталистического «прогресса». И Твен стремился понять, когда же произошел тот сдвиг, после которого все так резко переменилось к худшему. После Гражданской войны? Или еще раньше?
А впрочем, не так уж существенно, когда именно это случилось. Так или иначе, ушла в прошлое эпоха, еще дорожившая твердыми моральными принципами и высокими устремлениями души. На смену ей явилось время ожесточения каждого против всех, циничности и поклонения успеху.
Позднее Твен скажет об этом времени еще резче: «Страна разложилась сверху донизу». Это — из «Автобиографии», 1906 год. Американским читателям пришлось долго дожидаться публикации твеновских записок о самом себе. Пройдет более полувека, прежде чем появится сравнительно полное издание книги, которой Твен, зная, что ее не напечатают при жизни, предпослал вступление, озаглавленное «Из могилы». А когда «Автобиография» все-таки увидит свет, выяснится, насколько проницательным был Твен в своих оценках окружавшей его действительности. Во времена его молодости, вспоминал Твен, «порядочность у нас в Соединенных Штатах не была редкостью». Но та пора давно миновала. Теперь же и среди конгрессменов не сыскать ни одного, который, приняв взятку, по крайней мере, сделал бы то, за что ее брал. Ничего не добиться, не выложив тысячи какому-нибудь чиновнику, зато с деньгами легко добиться чего угодно. На американских монетах выбит девиз «В господа веруем». Надо бы уточнить: «Веруем в республиканскую партию и в доллар. Прежде всего в доллар».
Эти крамольные мысли Твен тщательно скрывал — даже от Ливи и от дочерей, не любивших, когда «папа сердится». А он уже не мог сдерживать раздражение и гнев, каждое утро читая в газетах о баснословных барышах Рокфеллеров и гулдов, о забастовках и голодных бунтах дошедших до отчаяния людей, о самоубийствах разоренных, о линчеваниях, о предательствах, подделанных завещаниях, банкротствах, денежных авантюрах и ловких махинациях пройдох без стыда и совести.
Когда-то на Гавайских островах он любовался могучим вулканом, нависшим над опрятными улочками Гонолулу. Вулкан в ту пору был спокоен, и к нему устремлялись экскурсанты, добиравшиеся почти до кратера по крутым каменистым тропинкам. Но на много километров вокруг все было припорошено мягким серым пеплом — напоминание о недавней вспышке. И в недрах кратера подрагивало пламя. Активности можно было ожидать в любую минуту.
Марк Твен в последние двадцать лет своей жизни походил — так ему и самому казалось — на такой вот клокочущий вулкан, от которого все время исходит угроза взрыва. Время от времени происходили сильные толчки: он публиковал рассказы и памфлеты, непримиримостью заключенного в них обличения всевозможных язв и уродств американской жизни ужасавшие и Оливию Клеменс, и самых близких друзей, не говоря уже о широкой публике. В юмористе пробудился сатирик. А стародавние — еще времен «Тома Сойера» — мечты о «зеленой долине, залитой солнцем» отодвинулись куда-то очень далеко, уступив место злой иронии, замешенной на разочаровании и скепсисе.
Америка сделала все для того, чтобы приглушить силу этого яростного извержения. И тем не менее повсюду в читающем мире были слышны его раскаты.
Свое малопочтенное имя «позолоченный век» получил от заглавия романа, написанного Твеном совместно с литератором Чарлзом Уорнером, его соседом по Хартфорду, и опубликованного еще в 1874 году. Твен, надо сказать, не любил романы в строгом значении этого слова — с обязательной любовной интригой, борьбой за наследство, случайными происшествиями, двигающими вперед развитие сюжета, с провинциалами, приезжающими завоевывать столицы, и светскими дамами, скучающими на модных курортах. Он считал, что в литературе не следует изобретать персонажей, которые самому автору никогда не встречались, да и вообще незачем выдумывать — «это дело богов, а мы, смертные, способны только снимать более или менее точные копии».
Зато Уорнер набил руку на такой беллетристике. Писал он непринужденно, занимательно, но всегда по готовым шаблонам, уверенной рукой ведя дело к благополучной развязке, когда добродетель торжествует, а порок повержен. Вряд ли мог выйти толк из сотрудничества настолько разных писателей. И действительно, роман получился разноплановым и разностильным. Твена узнать в нем легко — его главы отличаются от написанных Уорнером, как живые цветы от бумажных. Книга как единство не состоялась.
Впоследствии Твен говорил, что в «Позолоченном веке» ему принадлежит фактология, а красоты художества — это достояние Уорнера. Сегодня для читателя романа интерес сохранили только «факты». Твен взял их из собственной семейной хроники. Под именем Селлерса он изобразил своего дядю Джеймса Лэмптона — фантазера и чудака, который всю жизнь носился с дерзкими и совершенно беспочвенными проектами быстрого обогащения, а своих домашних и гостей потчевал обедом из пареной репы и слегка подсахаренной воды. Это герой очень типичный для тогдашней эпохи. Как множество других, Селлерс заразился болезнью предпринимательства и уверовал в миражи богатства, будто бы валяющегося прямо под ногами у каждого, кому но занимать смекалки и инициативы. Однако в реальной жизни для незадачливых авантюристов нет места, и, терпя одно поражение за другим, они скатываются по лестнице престижа на самые низкие ступени, чуть не до последнего своего часа разрабатывая новые — и уж на сей раз, конечно, безошибочные — планы процветания.
Знаменитая «теннессийская земля», о которой еще в детстве Твен столько наслушался за семейным столом, тоже описана в «Позолоченном веке». Когда Твен принялся за роман, об этом владении Клеменсов, породившем множество пустых надежд, уже почти и не вспоминали. Лишь Орион, старший брат писателя, все еще надеялся выгодно сбыть с рук пустующий огромный участок. Орион появится на страницах романа. Здесь его зовут Вашингтон Хокинс, и он так же невезуч, как неудачлив был в реальной жизни Клеменс-старший.
А вокруг «теннессийской земли» разгорятся жаркие страсти. Возникнут дутые планы строительства города Наполеона и развития судоходства по реке Колумба, к ним прибавится идея открытия университета для негров. И поднимется такая суета, что оборотистым дельцам оставалось только расставить сети, чтобы вылавливать крупную рыбу в этой мутной воде.
Как раз в это время газеты были заполнены подробностями скандала с железнодорожной компанией «Креди мобилье». Ее учредители, подкупив видных чиновников, ведавших казенными деньгами, сорвали приличный куш, а затем объявили о банкротстве и пустили по миру сотни мелких акционеров. Спрятать концы в воду не удалось, а может, пожадничали, поднося чек прокурору, но так или иначе — начался судебный процесс. Быстро нашелся и основной виновник — сенатор Помрой от штата Канзас, уже и прежде попадавшийся на сомнительных инициативах. В романе это сенатор Дилуорти, краснобай и жулик, каких Твен перевидал десятки, когда после Невады был одно время репортером в американской столице.
Специальность Дилуорти — входить в контакт с нужными людьми, давать взятки и убеждать публику, что черное на самом деле белое, и наоборот. Избиратели слушают его речи разинув рот, а тем временем Дилуорти по-своему толково ведет дело, твердо рассчитывая на солидное вознаграждение за хлопоты и труды по облапошиванию простачков. Он вовсе не одинок, этот Дилуорти, просто он и даровитее, и колоритнее многочисленных аферистов, обчищающих карманы доверчивых нью-йоркцев, а заодно и государственные фонды. Как он трогателен на митинге общества трезвости или, к примеру, среди дам-благотворительниц, шьющих сорочки для полинезийских дикарей, которых вскоре обратят в христианство! Дилуорти и сам сделал несколько стежков на рубашке, тут же признанной прямо-таки «священным предметом». А вечером он уже обмозговывает очередную жульническую затею и тут же прикидывает, кому и сколько надо будет дать в Конгрессе.
В конце концов Дилуорти терпит поражение. Нет, он отнюдь не намерен покидать арену политики. Просто его уверенность в себе несколько поколебалась. Нашелся высокодобродетельный человек, который разоблачил мошенника в сенате. Его имя — Ноубл — такое же значимое, как, допустим, Правдин у Фонвизина в «Недоросле». И на живую, полнокровную личность он похож не больше, чем фонвизинский резонер и правдолюб.
Своим появлением в романе он обязан Уорнеру. Твен язвил и показывал вещи, как они есть. Уорнер предпочитал душещипательные ситуации и всячески смягчал получавшуюся у соавтора невеселую картину. Он ввел в повествование не только Ноубла, но еще и безукоризненно честного старателя, а также его невесту, не желающую жить на дивиденды с отцовского капитала и посвятившую себя изучению медицины. У этой четы все очень благополучно устраивается, а читатели должны почерпнуть из рассказанной им пресной истории моральный урок.
Они, однако, без колебаний предпочли твеновские сатирические главы. «Позолоченный век» был замечен не только в Америке. Некрасов и Салтыков-Щедрин, в ту пору возглавлявшие журнал «Отечественные записки», отдали должное его бичующей иронии. Роман был переведен и опубликован сразу по его появлении и положил начало славе Марка Твена в России.
А прожектер Селлерс через много лет вновь представится читающей публике. В повести «Американский претендент» (1892) он одержим новой фантазией — воскресить мертвецов и, отобрав самых прославленных, самых дальновидных и благоразумных, заменить ими живые трупы, которые занимают все важнейшие чиновные должности. Намечалась богатая творческими возможностями сатирическая коллизия. Но Твена слишком увлекла сама комичность положения его героя, прячущегося от бакалейщика, которому он задолжал три с чем-то доллара, а в своем воображении уже ворочающего колоссальными суммами.
Другой центральный персонаж — английский граф, решивший, что за океаном он встретит подлинное равенство и начнет «правильную» жизнь, — поселяется в захудалом пансионе, чтобы тут же убедиться, как он был наивен, судя об Америке издалека. Вблизи она оказывается страной, где всевластно «грубое подхалимство», а неудачников забивают насмерть: пусть «не портят породу». Впрочем, и эта линия быстро обрывается, и повесть начинает сильно напоминать ранние беспечные юморески Твена.
«Американский претендент» тоже был переведен в России сразу по выходе в свет, причем печатался почти одновременно в трех журналах. Дело объяснялось, конечно, популярностью Твена, к тому времени у нас очень большой. Но не только ею. Есть в повести мотив, особенно близкий русской публике. Среди прочего Селлерс замышляет купить у царя Сибирь, где пора насаждать цивилизацию. Его представления о Сибири, мягко говоря, туманны. Но Селлерс слыхал, что сибирские просторы бесконечны и никем не тронуты. И он возмущается: царские министры считают, что Сибирь пригодна для одной цели — для того, чтобы ссылать в эту глухомань революционеров и неугодных.
Цензура свирепствовала, и в журнале «Русское обозрение» Селлерсу пришлось толковать не о Сибири, а о Турции, в «Художнике» и «Наблюдателе» — вообще мимоходом коснуться своего дерзкого намерения. Но этот вынужденный маскарад вряд ли обманул наших читателей. Они знали, что это за Турция, в которой все снег да снег, куда не погляди. И по обрывочным замечаниям Селлерса о «благороднейших людях», которых увозят на «далекие острова», они без труда догадывались, что имеется в виду.
На страницах «Американского претендента» упоминания о России кажутся случайными — мало ли какая нелепость взбредет в голову увлекающемуся Селлерсу! Но на самом деле случайности тут не было. Потому что Россия интересовала Твена давно с ходом лет — все сильнее.
Еще весной 1879 года он познакомился в Париже с Тургеневым и просил издателей послать русскому классику свою книгу «Налегке».
Хоуэлс, ближайший из его литературных друзей, был страстным поклонником и пропагандистом русского романа — Тургенева, Толстого; наверняка, о них не раз заходила речь в беседах у камина в хартфордском доме или на тенистых аллеях парка в Элмайре. А когда шла работа над «Янки из Коннектикута», Твен посещал лекции журналиста Джорджа Кеннана — самого осведомленного знатока России, какого в ту пору можно было встретить за океаном.
Кеннан только что вернулся из длительного путешествия от Петербурга до Кары, где бессрочные ссыльные работали на серебряных рудниках, и писал книгу «Сибирь и ссылка». Его потряс осмотр сибирских тюрем, глубоко взволновали рассказы политических заключенных и исковерканные царским террором судьбы, которые прошли перед глазами корреспондента «Сенчури». Он виделся с Толстым, с Короленко, с сосланными народниками, с простыми людьми, обвиненными в сочувствии революционному движению. Из России Кеннан вывез десятки мелко исписанных блокнотов и поручения осужденных своим товарищам — эмигрантам, которые исполнил со всей добросовестностью. А дома, не дожидаясь, пока будет завершена книга, начал выступать в переполненных залах, делясь своими впечатлениями и призывая оказать действенную помощь русским «террористам», которых он «с гордостью назвал бы своими братьями и сестрами».
Твен несколько раз был на этих выступлениях. И, покидая зал, однажды заметил: «Если подобное правительство нельзя обуздать иначе, как динамитом, то хвала динамиту!»
Это было сказано не под влиянием минуты. Взгляды Твена менялись глубоко и основательно. В 1891 году в Америку приехал писатель-народник Степняк-Кравчинский, издававший в эмиграции журнал «Свободная Россия». Между ним и Твеном завязалась переписка. Твен без обиняков назвал политику царя «чудовищным преступлением», а о революционерах отозвался с самым искренним восхищением: «По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть только ради блага других — такого, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России».
Он мечтал дожить до того времени, когда «удалось бы увидеть конец самого нелепого обмана из всех, изобретенных человечеством, — конец монархии». Может быть, и об этом говорил он с Горьким, когда они встретились в 1906 году. Трудовая Америка приняла Горького восторженно, официальная — с неприязнью, вскоре перешедшей в травлю. Твен произнес речь на приеме, который давали Горькому американские литераторы. Он говорил о том, что считает долгом каждого человека помочь грядущей республике, которая обязательно придет на смену Российской империи. А в письме, отправленном одному из друзей, выразился еще яснее: «Я приверженец революции — по рождению, воспитанию, взглядам, по всем своим понятиям».
Но у него не хватило твердости выступить против газетных клеветников и оскорбленных в своей убогой благонамеренности обывателей, когда они подняли истерический вой, обвиняя Горького во всех смертных грехах. Легко осудить за это Твена, как легко обнаружить и непоследовательность в его суждениях, свидетельствующих, что революцию он себе представлял довольно поверхностно. Да, он во многом заблуждался и не нашел в себе сил порвать с той средой, в которой протекала его жизнь.
Но все-таки не это самое главное. Твен прошел трудный путь духовных и нравственных исканий, расставшись со многими иллюзиями и честно служа правде, как он ее понимал. С годами в нем крепло убеждение, что нормы и принципы, принятые в окружающей действительности, несовместимы с человечностью, справедливостью и демократией. И у Твена достало мужества сказать об этом ясно и четко, вызвав на себя огонь со стороны поборников буржуазного мироустройства, шокированных его идеями.
Он был великим гуманистом и поэтому — великим художником.
И Горький это почувствовал при первом же знакомстве, написав о Твене с неподдельной теплотой: прекрасен был «умный и острый блеск серых глаз» старого писателя, который как будто лишь кажется стариком, потому что «его движения и жесты так сильны, ловки и так грациозны, что на минуту забываешь его седую голову».
Горький ощутил в нем проницательный ум, неизрасходованную силу таланта и честность, не признающую компромиссов.
Твеновские памфлеты, созданные в последние годы творчества, лучше всего подтвердили верность такого впечатления.
Однажды он признался Хоуэлсу, что «подрезает коготки» своей сатире. Речь шла о «Томе Сойере». С того давнего разговора утекло немало воды. Положение не переменилось. Но «подрезать коготки» делалось все труднее.
Конечно, Твену было совсем не просто вступать в прямой конфликт с людьми, среди которых он жил много лет. А все-таки конфликт, пусть тщательно скрываемый и смягчаемый, становился неизбежностью. Твен никому не показывал некоторые свои рукописи — опасался тяжелых объяснений. На других листках его рукой густо вымараны строки и целые абзацы. Точно бы он сам пугался того, что написал.
Он задумал книгу в форме посланий, которые сочиняет, но не отправляет наблюдательный, желчный и остроумный современник, не оглядывающийся на ходячие мнения и знающий истинную цену вещам. От нее сохранились только фрагменты. И предисловие. В нем охарактеризован автор этих писем никуда. «Он пишет, чтобы дать выход своей злости. При этом он похож на вулкан. Мало проку всего лишь воображать извержение. Нет, надо, чтобы кратер задымился и хоть немного лавы вышло на поверхность, иначе не ощутить облегчения».
Вряд ли можно точнее сказать о настроениях самого Твена в его последние годы.
Лава и вправду вырывалась на поверхность, и горе было тому, кого подхватывал ее неудержимый, испепеляющий поток. А читатели с чутьем и слухом ощущали, что вулкан лишь начинает приходить в движение. Страшно подумать, какие разрушения он произведет, когда извержение достигнет своего пика!
О разрушениях, которые Твен произвел в бастионах лжи и в сознании своих соотечественников, тогда еще буквально порабощенном бесчисленными предрассудками и дутыми амбициями, стало возможно судить только в наши дни, когда его памфлеты, наконец, изданы более или менее полно. Но и того, что писатель напечатал при жизни, с лихвой хватило, чтобы пролег рубеж резкого размежевания между американскими казенными патриотами и сатириком, откликнувшимся на империалистические войны и захваты, на всесилье богатства, не бесправие угнетенных. Это был негодующий отклик. Оружие Твена сражало наповал.
Памфлет — жанр очень старый. Трудный жанр. Здесь куда как просто сбиться на грубоватый шарж или на оглушающую патетику. Автор должен научиться сдерживать ярость, которая водит его пером, не то останется голая эмоция, а искусство исчезнет. Памфлетисту важна тщательно продуманная маска. Он словно бесстрастный протоколист, хотя под его мнимой безучастностью кипит негодование. Он с самым равнодушным видом излагает события невозможные, но обнаруживающие реально присущие тем или иным людям свойства с такой же наглядностью, с какой выступают едва заметные переливы окраски, когда положишь растение или бабочку под увеличительное стекло.
Едва ли не самым блестящим мастером памфлета был Свифт, автор «Гулливера». Твен чувствовал свою родственность этому писателю. И когда хотел кого-нибудь особенно похвалить, помечал на полях книги: «Почти как у Свифта».
Сам он овладел нелегким этим ремеслом не сразу. Но когда овладел, сразу же занял место среди крупнейших сатириков, и не только своей эпохи. Произошло это еще в годы между «Геком Финном» и «Янки из Коннектикута». Тогда и был создан один из его лучших памфлетов, спрятанный глубоко в стол и извлеченный на свет душеприказчиками лишь через шестьдесят лет, — «Письмо ангела-хранителя».
Кому оно адресовано, это письмо? Эндрю Лэнгдону, угольному магнату из Буффало. Лэнгдон? Да ведь и Оливия до того, как стать миссис Клеменс, была мисс Лэнгдон. А ее отец возглавлял угольную компанию как раз в Буффало.
Однако Твен писал вовсе не для того, чтобы задним числом свести старые семейные счеты. Какой-нибудь Гулд узнал бы себя в облике Эндрю Лэнгдона даже скорее, чем тесть Твена или дядя его жены, который, как считается, стал прообразом этого персонажа. Тут дело не в реальных лицах, а в психологии и мышлении крупного промышленника. В родовых чертах, присущих всем людям такого типа.
Твен попытался вообразить, о чем они втайне мечтают, о чем молятся, когда никто не может их услышать, кроме ангела-хранителя. От ангела не укрыться, перед ним незачем лицемерить. И Эндрю Лэнгдон приоткрывает свои заветные желания. А из небесной канцелярии поступают санкции или запреты.
Пошли нам, боже, похолодание, чтобы антрацит вздорожал еще больше. — Удовлетворено.
Пошли безработицу, чтобы еще больше снизить зарплату шахтерам. — Удовлетворено.
Пошли болезнь и разорение конкурентам. — Удовлетворено с оговорками: они ведь столь же примерные христиане, как и Лэнгдон.
Пошли циклон, чтобы затопило шахты безбожников из Пенсильванского треста. — Задержано ввиду временного отсутствия циклонов по причине зимнего времени.
Пошли мор и напасти надоедливым просителям, которых вечно преследует бедность. — Отклонено, поскольку противоречит действиям Лэнгдона, не так давно пожертвовавшего целых шесть долларов своей нищей родственнице, у которой умер ребенок.
Легко вообразить, какая поднялась бы буря, посмей Твен отдать в газеты этот свой памфлет. Разного рода миллионерам, правда, нравилось изображать покровителей искусств и чуть ли не либералов, но существовала черта, которую было рискованно переходить даже Твену при всей его славе. И филантропические литературные затеи богачей на поверку всегда оказывались только хитроумной формой саморекламы. А обижать себя они бы никому не позволили.
Миллионер Карнеги, например, предоставил Твену средства для того, чтобы издать брошюрой «Монолог короля Леопольда» — памфлет, от которого отказались напуганные его содержанием журналы. Бельгийский король Леопольд II в конце прошлого века установил свою власть над обширным бассейном реки Конго и варварски расправился с африканцами, при этом старательно делая вид, что он действует во имя цивилизации и христианства. Твен, называвший Леопольда не иначе, как «кровавым чудовищем», предоставил в памфлете слово этому редкостному фарисею и ханже, и чем пространнее говорил король о собственной возвышенной миссии, тем более явны делались его подлинные мотивы — разгулявшийся аппетит хищника и неимоверная жестокость. Так что же могло привлечь Карнеги в этом произведении? А очень просто: между хищниками уже вовсю шла грызня, и среди своих противников Леопольд поминает американских воротил. Включая и Карнеги.
Николай II тоже произносит монолог, пытаясь оправдаться за 9 Января, когда с помощью провокатора Гапона в Петербурге расстреляли рабочую демонстрацию. Подобно Леопольду, русский царь в памфлете Твена оставлен наедине с собой, чтобы не было необходимости лукавить из дипломатических соображений. И он даже по-своему искренен, когда утверждает, что поступил мудро и справедливо, отдав приказ стрелять в безоружных. Ну как же, ведь красная зараза угрожает трону, и трещит по швам монархия, простоявшая триста лет. Это ли не причина, чтобы нагайками и штыками проучить обнаглевшую голытьбу!
Твен умел глубоко спрятать авторский сарказм. Эффект получался еще убийственнее, когда «герои» его памфлетов принимались исповедоваться перед самими собой, отбросив казуистику. Но в других случаях он предпочитал говорить открыто — как публицист, как обвинитель на процессе, где судят насильников и расистов, мародеров в генеральских мундирах и растлителей с библиями в руках.
Америка спровоцировала вооруженный конфликт с Испанией, быстро разгромив армию этой отсталой страны и прибрав к рукам ее колонии. На Филиппинах местные жители оказали экспедиционному корпусу американцев под командованием генерала Фанстона упорное сопротивление. Усмиряя непокорных аборигенов, Фанстон проявил столько вероломства, что даже военное начальство попеняло ему за чрезмерное усердие. А Твен назвал свой памфлет «В защиту генерала Фанстона». И то сказать, разве виноват Фанстон, что «его совесть испарилась, когда он еще был маленьким»? Пристрастие к особенно гнусным поступкам, конечно же, внушила ему сама природа. Правда, по каким-то таинственным причинам природа в последнее время производит лишь таких генералов и бонз, которых тянет не к «моральному золоту», а «моральному шлаку». Но это уж, видимо, ее загадка, перед которой совершенно бессилен человеческий ум.
«Моральный шлак» — у позднего Твена это одно из ключевых понятий. Повсюду обнаруживал он свидетельства глубокого нравственного падения. И никакая демагогия не могла его обмануть. Сообщая об очередном случае линчевания, газеты не скупились на фальшивые слезы, но непременно подчеркивали, что подобные жестокости вовсе не типичны для Америки — просто кое-где нравы еще слишком несдержанные. А Твен в поразительно резком и смелом своем памфлете называл родину «Соединенными Линчующими Штатами». Миссионеры, вернувшиеся из дальних краев, расписывали свои успехи в деле просвещения туземцев, «обретавшихся во тьме». А в памфлете Твена от имени святош говорилось: «Да, мы лгали... мы предали слабых, беззащитных людей... мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга... но все это было к лучшему», поскольку еще одна территория теперь отошла под власть всемирного треста грабителей, именующего себя «Дары Цивилизации».
Едва ли не решающим событием в духовной биографии Твена после «Гека» и «Янки» явилось кругосветное путешествие, предпринятое в 1895 году. Долги вынудили шестидесятилетнего писателя вновь вернуться к публичным чтениям. Поездка началась с Канады, потом маршрут пролег через Австралию, Индию, Цейлон, Южную Африку. Оливия и Клара любовались экзотической природой и памятниками истории, Твен отлеживался в гостинице, собирая силы для вечернего выступления в душном, битком набитом зале. Возвращения в Лондон, где тогда обосновались Клеменсы, он ждал нетерпеливо, словно заключенный, заканчивающий свой срок. А в Лондоне была получена телеграмма о тревожном состоянии его дочери Сюзи. Через два дня пришла страшная весть: Сюзи умерла.
Оливия узнала об этом уже по прибытии в Америку. Твен не смог ее сопровождать — он должен был немедленно приниматься за свою книгу путевых заметок. Чтобы эту книгу раскупали, будущих читателей требовалось побольше развлекать колоритными описаниями и потешными сценками. Надо ли говорить, какой ценой давался писателю этот юмор!
Книгу он назвал «По экватору», она появилась через год после путешествия и помогла избавиться от кабалы кредиторов. Смешные страницы в ней нечасты да и не слишком удачны — по-другому и не могло быть. Зато она содержала пространные размышления Твена над всем увиденным вдоль экватора, в колониях, находившихся под властью Англии.
Многого он не сумел понять, поверив старому мифу о благотворности английского влияния на «дикарей» и о тяготах, которые доставляет это «бремя белого человека», воспевавшееся Редьярдом Киплингом, чья звезда в ту пору высоко взошла на литературном небосклоне. А о многом Твен и судил понаслышке. Чиновники английского губернатора рассказывали ему об ожесточении сипаев, индийских солдат на британской службе, поднявших в 1857 году восстание, вскоре сделавшееся всенародным. О том, что привело к этому восстанию — о гнете, терроре и грабежах, которыми англичане занимались в Индии еще с XVI века, — они умалчивали. Твен тоже не коснулся этой больной темы. Хотя тем самым искажалась истина.
А все-таки книга оказалась ярким обличительным документом, в котором показана подлинная роль колонизаторов и в Африке, и в Азии, и в Новой Зеландии. За тысячи миль от родины Твену часто вспоминался Ганнибал рабовладельческих времен: слишком бросалось в глаза сходство. Официально в колониях не существовало рабства, но как иначе можно было назвать насаждаемую штыком и крестом систему бесправия, насилия, истребления коренных жителей. Не проходило дня, чтобы Твен не столкнулся с этой системой в действии. И на страницах его очерков через вымученные шутки и пересказы занимательных легенд пробивалась горькая, суровая правда о кровавых трагедиях, разыгравшихся вдали от европейских берегов. О расхищении природных богатств, об ужасающей нищете туземцев, об эпидемиях, косивших их тысячами, о безнаказанности колониальных властителей, обитающих в сказочной роскоши.
«Я многое передумал, — заявит Твен, вернувшись в 1900 году в США после девятилетнего отсутствия. — Теперь я антиимпериалист».
Своей позиции он не изменит до самого конца.
Каждой главе книги «По экватору» предпослан эпиграф из некоего никому не известного сочинения, называющегося «Новый календарь Простофили Вильсона». Эпиграфы забавны и поучительны. Например: «Когда не знаешь, что сказать, говори правду». Или: «Человек, кричащий о своей скромности, подобен статуе, прикрытой лишь фиговым листком».
Но порой эти сентенции развеселят разве что тех, кто всерьез не хочет думать ни о чем. Вот хотя бы эпиграф, поставленный перед рассказом об английских каторжниках в Австралии: «Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет».
А случается, «Календарь Вильсона» окрашен и совсем уж в мрачные тона. «Человек — единственное животное, способное краснеть», — замечает Простофиля. Чтобы тут же добавить: «Впрочем, только ему и приходится». Это перед главой о палаче Тасмании Робинсоне, который печатным объявлением предупредил неграмотных аборигенов, чтобы они не смели покидать свою резервацию в песках, а затем жестоко их покарал за нарушение запрета.
В записных книжках Твена, относящихся к этому же времени, грустные, а то и беспросветные мысли о природе человека встречаются все чаще. Кажется, трудно поверить, что эти записи сделаны тем же юмористом, который лет тридцать назад беззлобно подтрунивал над невезучим укротителем велосипеда и заядлыми спорщиками, похваляющимися необыкновенной лягушкой. Как резко все переменилось в его ощущении мира!
С юмористами, правда, такое случается часто. Вспомним Гоголя, перечитаем «Сорочинскую ярмарку» или «Майскую ночь» — разве не поразят после этих жизнерадостных, искрящихся и солнечных страниц мрачные краски «Петербургских повестей» и многих эпизодов в «Мертвых душах»? И дело не только в том, что Гоголь как художник глубоко переменился с ходом лет. Дело еще и в коренных особенностях юмора. У великого писателя юмор — это всегда способ понять важнейшие законы жизни и сущность людей. А эти законы и человек, находящийся под их властью, не каждому внушат чувство радости. Скорее, наоборот, побудят с недоверием отнестись к оптимистам, слишком уверенно утверждающим, что жизнь прекрасна, если не считать временных и преходящих сложностей, несовершенств, неурядиц.
В свои последние годы Твен писал трактат, названный «Что есть человек». Эта рукопись осталась неопубликованной. Видимо, писатель страшился неизбежных резких нападок, да и не был до конца удовлетворен сделанным. Он не был ни теоретиком, ни мыслителем в строгом значении слова. И исходил он не из абстрактных философских выкладок, а из накопленного им самим огромного опыта. Но этот опыт целиком почерпнут из наблюдений над обществом, в котором жил сам Твен. А разъедающие язвы этого общества ему были видны яснее, чем любому другому американскому писателю того времени. И когда Твен отзывался о человеке без малейшего умиления и восхищения, он, собственно, судил общество, уродующее человеческую личность. Он оставался сатириком, точно распознающим пороки своего времени и окружающего мира, и вовсе не превращался в угрюмого мизантропа, для которого скверно и абсурдно все, что ни существует на земле.
Его упрекали в чрезмерной желчности. Внешне для таких упреков были все основания. Достаточно полистать твеновские записные книжки или заготовки к «Автобиографии». Сколько там отыщется язвительных, беспощадных слов о человеческой природе! Ну вот хотя бы: «Некоторые утверждают, что между человеком и ослом нет разницы; это несправедливо по отношению к ослу». Или запись, сделанная во время кругосветного путешествия: «Меня бесконечно поражает, что весь мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую смехотворную канитель».
Сказано, кажется, уж до того мрачно, что суровее сказать о людях и о созданном ими мире невозможно. Но у Твена есть суждения и еще более безотрадные. Что такое — в его представлениях — человек? Всего-навсего мешанина из грубых инстинктов и чужих, заемных мыслей. Существо злое, лживое, раболепное...
Да, под старость его все чаще посещали такие вот грустные настроения. Но только неверно было бы полагать, что он отступил от своих гуманистических убеждений. Это не так. Он лишь стремился обойтись без «возвышающих обманов» и иллюзий. Ему претила трескучая болтовня либералов и радетелей о всеобщем благе, старательно не замечавших, насколько глубоко въелись в сознание множества людей фанатичные предубеждения, своекорыстные принципы, расистские поверья. Он отзывался о человеке резко, жестоко, но совсем не для того, чтобы вынести не подлежащий обжалованию приговор людскому роду, а затем, чтобы со всей четкостью указать на реальные человеческие беды, ошибки, заблуждения, которые необходимо преодолеть, если искренним остается стремление сделать мир справедливее и лучше.
И у Твена было достаточно свидетельств, подкрепляющих самые нелестные для человека выводы, к которым он приходил. О какой, допустим, «врожденной порядочности» современников можно толковать, когда «поколением раньше их отцы и тогдашние служители церкви выкрикивали все ту же святотатственную ложь, когда они захлопывали дверь перед затравленным рабом, когда побивали горстку его человеколюбивых защитников цитатами из священного писания и дубинками, когда глотали оскорбления южан-рабовладельцев и лизали им сапоги». Да если бы что-то всерьез менялось на американской земле по мере «прогресса»! Но ведь все остается как было, и только низость и бесчестье справляют свое пышное торжество. «Алчность и корысть существовали во все времена, но никогда за всю историю человечества они не доходили до такого дикого безумия, как в наши дни».
Может быть, и самого Твена пугали эти мысли. Он боялся доверять их бумаге, а доверив, прятал от чужих глаз. В записной книжке 1904 года мы найдем горькое признание: «Только мертвым позволено говорить правду».
А все же Твен ее говорил — иногда прямо, чаще завуалированно, но так, что читатели его хорошо понимали. Тот Простофиля Вильсон, чьи сентенции послужили эпиграфами в книге «По экватору», был главным героем повести, созданной Твеном в 1894 году. Повесть — она так и озаглавлена: «Простофиля Вильсон» — не имела успеха у тогдашней публики. Сейчас ясно, что это одно из наиболее значительных произведений Твена. Здесь снова перед нами крохотный городок в Миссури, на берегу реки — он называется Пристань Доусона, но мог бы называться и Санкт-Петербургом, и Ганнибалом. И время действия — снова годы юности Твена, эпоха, предшествовавшая Гражданской войне.
Но до чего все в этой повести не похоже на атмосферу, памятную по «Тому Сойеру» и даже по «Геку Финну»! Не осталось ни следа от былого уютного, дремлющего под жарким солнцем мирка, где люди душевно расположены друг к другу и обязательно встретится бесконечно добрая тетя Полли или тетя Салли, а если ее заботливая опека начнет приедаться, всегда можно сбежать на Джексонов остров, а то и на романтичную индейскую территорию. Теперь вместо уюта — черствость и скотский быт заскорузлых провинциалов, вместо доброты — повседневно чинимая и никем даже не замечаемая жестокость, вместо романтики — серенькая, убогая будничность, в которой глохнет все человечное, все по-настоящему живое.
И вот в таком-то захолустье оказывается человек наблюдательный, думающий, независимый, а обыватели тут же решают, что он наверняка с придурью, и дают ему прозвище Простофиля. По своим интересам, по своим духовным запросам Вильсон стоит на несколько порядков выше, чем все жители Пристани Доусона, вместе взятые, однако пройдет добрых двадцать лет, прежде чем это поймут и признают, да и то волею случайности. А пока Вильсону остается лишь возиться со стеклышками, на которые он снимает отпечатки пальцев своих соседей — так, забавы ради, просто из интереса к новой технике, разработанной криминалистами, — и заполнять страницы дневника краткими суждениями о жизни, которую он наблюдает.
Цитаты из его «Календаря» вынесены в качестве подзаголовков к главам, и они сумрачны до безнадежности. Все вокруг отвратительно, ничтожно, мерзко. А какие претензии, какая фанаберия, какое непрошибаемое самодовольство всех этих миссурийских рабовладельцев, мнящих себя светочами разума и гордых, точно индюки!
«Когда я раздумываю над тем, сколько неприятных людей попало в рай, — записывает Простофиля, — меня охватывает желание отказаться от благочестивой жизни». На земле, в Доусоне, с такими людьми, хочешь или нет, приходится соприкасаться ежедневно. Ну что же, у Вильсона достаточно причин мечтать об аде, если и за гробом ему предстоит общаться все с той же самой публикой. Ведь на его глазах преспокойно отправляют в низовья реки, туда, где страшные хлопковые плантации, ничем не провинившихся темнокожих слуг, и ради денег не брезгают никакой подлостью, и площадной бранью осыпают тех, перед кем еще вчера в ожидании каких-то выгод лакейски расшаркивались. И на его глазах развертывается история двух мальчиков, которые родились в один и тот же день и под одной крышей, но сразу же очутились на противоположных полюсах. Потому что Том — отпрыск состоятельного торговца и спекулянта земельными участками, а Чемберс — сын горничной, в чьих жилах есть малая толика негритянской крови.
Как тут не вспомнить «Принца и нищего»! Опять знакомый мотив двойников, которые от природы одинаково наделены и разумом, и чувством, но оказываются словно бы выходцами из разных миров, поскольку в жизни все решает не природа человека, добрая и прекрасная, а его социальное положение, богатство, престиж, унаследованный от предков. Действительно, исходная мысль здесь та же самая, что и в повести о Томе Кенти и принце Эдуарде, но разработана она совсем иначе, потому что за годы, разделяющие два произведения, очень изменился сам Твен.
Мальчиков поменяли в колыбели, и тот, кто от рождения бесправен, пользуется всеми преимуществами полноправного и достопочтенного гражданина Доусона, а тот, кто по крови должен принадлежать к верхушке местного общества, попадает на самое дно. В «Принце и нищем» эта ситуация обозначала глубокую — и подлинную — родственность всех людей, которую Твен считал чем-то само собой разумеющимся, как безусловной представлялась ему та истина, что человек по своей природной сущности доброжелателен, гуманен, справедлив. Поэтому и коллизия увенчалась в той повести счастливым финалом — как и подобает сказке.
А в «Простофиле Вильсоне» все наоборот. Детей поменяла мать Чемберса, не хотевшая участи раба для своего сына. Быть может, Рокси и удалось уберечь его от хлопковой плантации. Но уж во всяком случае — не сделать счастливым. Чемберс вырос холодным эгоистом, картежником, трусом и предателем. Выкручиваясь из долгов, он не постыдился сбыть работорговцу собственную мать, а потом ради денег убил человека, который его выпестовал после смерти мнимого отца, да еще это убийство было так ловко обставлено, что жертвой правосудия едва не стал невиновный.
И ход событий убеждает, что заложенные от рождения качества, даже если они высоки и привлекательны, сами по себе ничего не могут определить в реальной человеческой судьбе. Вся суть в том, какие из этих качеств разовьются и станут определяющими, а тут уже решающая роль принадлежит среде, воспитанию, нравственному климату, в котором обитает личность. Видимо, природа одаряет человека самыми разными, даже несовместимыми свойствами, и бессмысленно гадать, чего в нем больше — добра или зла, честности или коварства, гуманности или подлости. От мира, где он живет, и от него самого — от его убеждений, принципов, понятий — зависит, каким станет в итоге тот или иной человек.
А если так, не Америка ли — страна, где рабство отравляет все отношения между людьми, — прежде всего и повинна в том, что моральным калекой вырос Чемберс, сызмальства перенявший изуверские представления, на которых держался весь порядок вещей в Доусоне? Простофиля Вильсон, которому отданы авторские симпатии, задумается об этом не однажды. И свой вывод сформулирует в суждении, заключающем повесть: «12 октября — день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо».
Пройдет пять лет, и Твен опубликует знаменитый рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг» — произведение, где снова возникает парадоксальная идея: ад предпочтительнее, чем будничное провинциальное житье-бытье, и Америку, вероятно, не стоило открывать. В этом рассказе тоже использован старый твеновский мотив — мистификация. Только теперь жертвой мистификации оказывается не какой-нибудь наивный простак, которого разыграли приятели, чтобы потом вместе посмеяться над остроумной проделкой. Жертва на сей раз — целый город, такой же заурядный, как Санкт-Петербург или Пристань Доусона, и рядом с ними выделяющийся разве что своей непомерной кичливостью.
Гедлиберг всегда был неукоснительно честен. Прямо-таки символ неподкупности. Местные жители привыкли похваляться своими добродетелями по любому поводу. И были искренне убеждены, что, явись в их город хоть Сатана собственной персоной, ему бы пришлось убраться восвояси ни с чем. Потому что Гедлиберг неподкупен. Потому что он верен своему девизу: «Не введи нас во искушение».
Но вот однажды странного вида человек — чужестранец, должно быть, — поздним вечером постучался в дом старого банковского кассира Ричардса и оставил там на хранение тяжелый мешок, в котором, как выяснилось, лежит ни много ни мало, — сорок тысяч долларов золотыми монетами. У незнакомца нет ни рогов, ни хвоста, но догадаться, что в Гедлиберг пожаловал не кто иной, как сам Дьявол, несложно — ведь цель его визита в том и заключается, чтобы ввести во искушение городишко, уж слишком гордившийся своей праведной моралью. И этой цели он добивается, прибегнув к мистификации, как поступил бы на его месте типичный герой фронтира. А когда его гнусный замысел исполнен, золото окажется всего лишь свинцом, которому грош цена. Так у Гоголя в «Пропавшей грамоте» нечистая сила превращает в кучу битых черепков выигранные у нее бравым казаком червонцы.
Ну а мистификация разыграна отменно. Тут и трогательная история о милосердии, будто бы проявленном одним из гедлибергцев в трудную для чужестранца минуту. И девятнадцать посланных из разных концов страны писем, в которых именитым гедлибергским гражданам сообщалось, какие именно слова произнес неведомый благодетель, наставляя на путь истинный заблудшую душу. И — как следствие — девятнадцать претендентов на награду, прекрасно знающих, что лишь один человек — он всю жизнь враждовал с ханжеским Гедлибергом, а теперь, хвала всевышнему, покоится в могиле — мог быть таким благодетелем, но тем не менее уже прикидывающих, как бы повыгоднее пустить в оборот ожидающую их огромную сумму. А в финале — общий конфуз, и презрительный хохот толпы, на чьих глазах рушатся оплоты гедлибергской нравственности, и триумф Лукавого, принявшего обличье торговца-антиквара.
Его торжество станет полным после того, как развеется миф о том, что один честный человек в Гедлиберге все же нашелся. Ричардс, которого в городе всегда считали воплощением непоколебимой добродетели, тоже поддался дьявольской уловке, но это удалось скрыть. Что же, Сатана — настоящий джентльмен, и одолевших его он умеет вознаградить по справедливости. Но деньги, которыми он одарил Ричардса, пахнут смертью. Они убивают. Только, может быть, убивают всякие деньги, и не суть важно, преподнесены они Нечистыми, добыты интригами, нажиты скопидомством?
Дьяволиада — это особая глава в истории литературы: ее на протяжении столетий писали многие мастера слова, и каждый вносил что-то свое, неповторимое. Дьявол представал символом зла, искусителем рода человеческого, страшной темной силой, как в библии. Но мог предстать и бунтарем против скверного общественного устройства, духом свободы. Или умным, ироничным и беспощадным в своей последовательности комментатором людской глупости, в каких бы формах она ни проявлялась.
У Твена Дьявол не комментирует — он просто распоряжается, как истинный хозяин, которому подвластны и мысли, и поступки, и души даже самых вроде бы беспорочных обитателей гедлибергов, разбросанных по Америке от океана до океана. Он спокоен и уверен в себе, этот Дьявол, потому что ему-то хорошо известно, насколько всесильна жажда обогащения, превращающая людей в своего рода роботов и убивающая в них нравственное чувство.
И с каждой новой его победой все обоснованнее становятся сомнения Простофили Вильсона в том, что Америку действительно стоило открывать.
Но когда такие сомнения начинали овладевать самим Твеном, из глубин памяти выплывал мирный городок его детства, и рука тянулась к перу, чтобы продолжить рассказ о Томе и Геке, просто побыть в их обществе, ведь, наверное, они одни могли бы поспорить с пессимистом Вильсоном всерьез.
У Твена были разные планы завершения истории двух его любимых героев. И несколько раз он принимался за эту работу. Он написал повестушку «Том и Гек среди индейцев», даже начал ее печатать в журнале для подростков, но оставил эту идею, убедившись, что у него выходит чисто приключенческая книжка. А ведь когда Гек замышлял бегство на «индейскую территорию», он думал не о приключениях, а о том, как бы сохранить свою свободу от посягательств не в меру благочестивой тети Салли, которая уж непременно превратила бы его в какого-нибудь почтенного гедлибергца. В «Геке Финне» речь шла о слишком сложных вещах, чтобы теперь удовольствоваться обычной детской игрой.
Потом, в 1894 году, появился «Том Сойер за границей». С Томом все оказывалось намного проще — он как был, так и остался фантазером и искателем захватывающих авантюр, и на воздушном шаре он себя чувствовал так же естественно и свободно, как прежде на Джексоновом острове. Этот воздушный шар он увидел на выставке в Сент-Луисе и, конечно, тут же в него забрался, отвязал канат — Джим и Гек, его спутники, ахнуть не успели, как шар взмыл ввысь. Так втроем они и перелетели через Атлантику, пронеслись над Европой и прибыли куда-то в Аравию. Том в ту пору воспламенился мыслью сделаться крестоносцем, а крестовые походы, помнится, совершались как раз в этих местах или где-то поблизости.
Рассказчиком Твен сделал Гека, хотя в новой повести Геку фактически оставалось лишь подыгрывать Тому да порой его одергивать, когда приятель слишком явно хватал лишку в своих проектах. И рассказ вышел занимательным, порой смешным, но не более того. Исчезли и поэзия, и тайна, которые зачаровывали в «Томе Сойере». Пропала непринужденность, притупилась свежесть и необычность ощущения мира. «Том Сойер» был художественным открытием. «Том Сойер за границей» — лишь повторением. И не слишком удачным.
А «Том Сойер — сыщик», еще одна повесть из той же серии, напечатанная в 1896 году, и вовсе не получилась. Здесь наши старые знакомые расследуют одно темное дело, которое связано с похищением бриллиантов. Взрослые безнадежно увязли в перипетиях этой аферы, зато Том и Гек довольно быстро находят преступников и спасают ложно заподозренных. Сами они тоже не остаются в накладе. Приличное вознаграждение за услуги пополнит их счет, открытый еще после того давнего приключения с поисками клада в пещере.
Но суть-то в том, что по своему характеру они не годятся ни в бизнесмены, ни в ростовщики. Так для чего им эти деньги? Еще подростками они могли бы хоть завтра открыть собственную контору, а потом спокойно подсчитывать прибыли. Нет, подобное занятие явно не для них. А где отыскать другое? Как сделать, чтобы романтики остались романтиками, хотя подходит для них пора возмужания и, видимо, никуда не деться от солидно обставленного быта, пусть при одной мысли о нем сводит скулы со скуки.
Твену так и не суждено было найти решение этой проблемы. Да это и невозможно было сделать, если считаться с реальными американскими условиями. А не считаться с ними, сочинять успокоительные сказочки он не мог. И оставался единственный вариант, конспективно изложенный в записной книжке: «Гек возвращается домой бог знает откуда. Ему шестьдесят лет, сошел с ума. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки и других. Из скитаний по свету возвращается шестидесятилетний Том, находит Гека. Вспоминают старое время. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, исчезло. Умирают».
Такая повесть не была написана, хотя Твен говорил о ней со своим секретарем совсем незадолго до смерти — в 1910 году. Может быть, он просто не успел за нее взяться. Но скорее, не захотел. Слишком тяжело было бы вот так распрощаться со своими героями. И с последними светлыми воспоминаниями, которыми заполнены страницы двух самых прославленных твеновских книг.
Кто знает — пожалуй, хорошо, что для читателей всего мира рассказ о Томе и Геке завершился на том, что они спасли Джима и замыслили побег к индейцам. Сколько уже сменилось читательских поколений, а Том и Гек не состарились ни на год. Они и сегодня рядом с нами и все так же заставляют сопереживать им, и радоваться каждой их удаче, и делить их невзгоды. Мы понимаем, до чего им будет непросто в Америке, когда они вырастут. Но для нас они, видимо, навсегда останутся подростками. Как и Том Кенти. И принц Эдуард. И Жанна из Домреми. И все другие твеновские персонажи с их юношеской влюбленностью в жизнь, доверием к романтике, жаждой справедливости, самоотверженной верностью мечте.
И, перечитывая книги Марка Твена, мы будем снова и снова погружаться в совершенно особый, увлекательный и яркий мир, где порою дуют очень холодные ветры, но не гаснет огонек настоящей человечности.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |