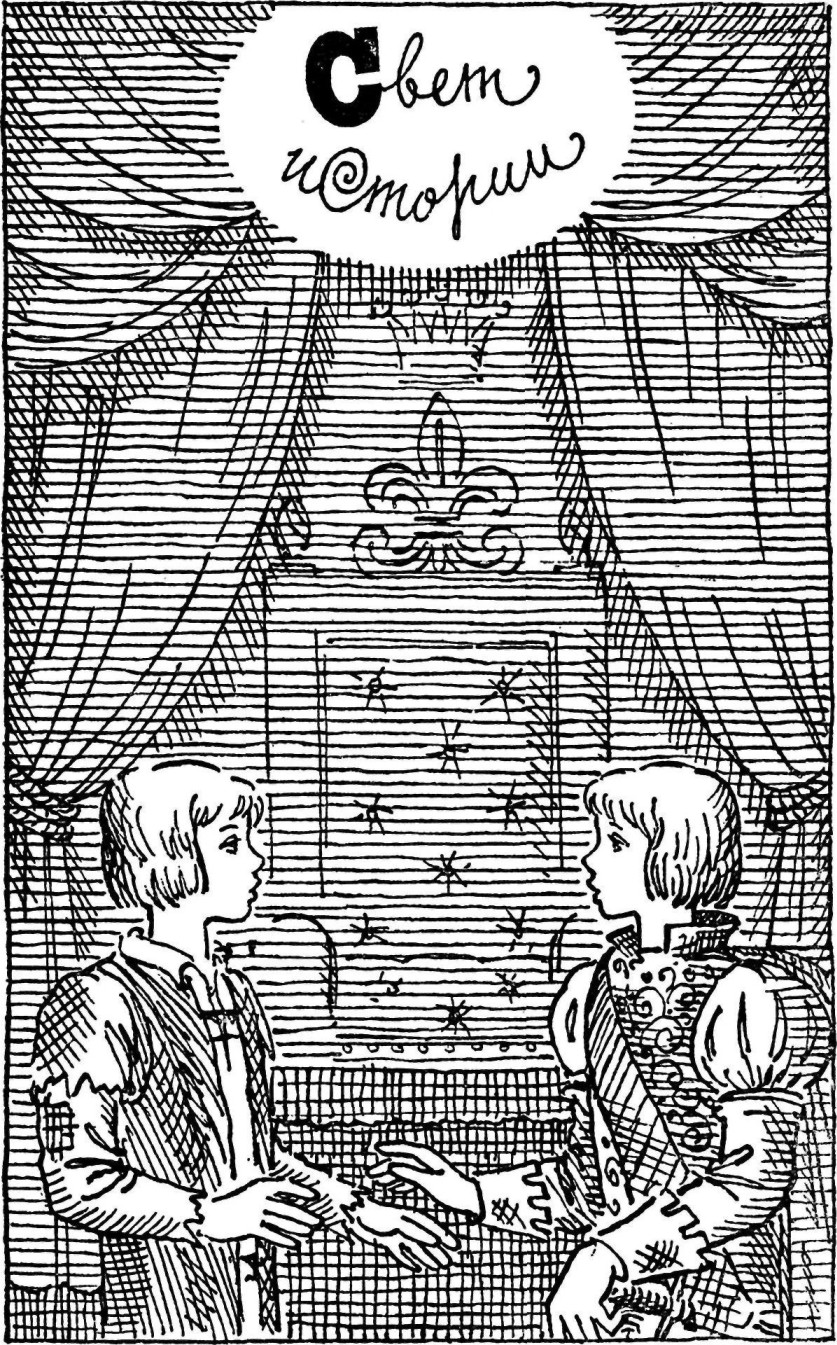Первые главы «Гека Финна» появились в конце 1884 года в популярном журнале «Сенчури». Читатели, радуясь возвращению своих любимых героев, настроились вдосталь посмеяться. Новая книга Твена их несколько разочаровала. Она была не такая забавная, как повесть о Томе Сойере. И затрагивала неприятные стороны жизни, о которых многим не хотелось серьезно задумываться. Ведь Твена в ту пору считали просто беззаботным балагуром и весельчаком. Эта легенда укоренилась настолько, что возникали курьезные ситуации. Как-то устроили чтение Твена в городке Утика. Он вышел на сцену, достал рукопись, но так и не смог приступить к делу. Едва завидя его, слушатели начали хохотать. На секунду переводили дух, аплодировали и снова смеялись до слез. А читать он собирался из «Гека Финна», о Грэнджерфордах и Шепердсонах, перестрелявших друг друга.
В конце концов он начал сердиться, когда его называли юмористом. «Юмор? — писал Твен одному из друзей. — Ну конечно, у меня юмор. И такой, что вполне подойдет для молитвы по усопшему. Никто даже не заметит, что тон ее не совсем уместен».
Необходимость чтения со сцены порой выводила его из себя. «Послушайте, это же унизительно. С какой стати я должен выглядеть идиотом? Что за мерзость! Не могу больше этого выносить».
Не мог, а приходилось. Нельзя было просто отказаться от тех же чтений — тогда публика начала бы быстро забывать Твена, чего он тоже не мог допустить.
И кроме того, на нем лежали заботы о семье. Вкусы Оливии Клеменс было не так-то просто удовлетворить. Выросшая среди роскоши, она не привыкла ни в чем себя ограничивать. Да и престиж в хартфордском обществе был для нее исключительно важен. Прошли времена, когда Твен разгуливал в куртке из тюленьего меха и дешевом галстуке, лихо повязанном на крепкой, загорелой шее. Теперь он был признанный литератор, к тому же владелец замысловато выстроенного особняка с башенками, галереями и фонтаном во внутреннем дворике. За домом тянулся сад, спускавшийся к берегу речки, именовавшейся Французским ручьем. В народе ее называли попроще — Свиной брод.
Этот дом бесконечно перестраивали, усовершенствовали, украшали, пока не выяснилось, что на банковском счету Твена осталось всего каких-то сто долларов, «о которых, к счастью, еще не пронюхал подрядчик». Удрученный этим открытием, он признавался сестре, что искренне желал бы пожара, который избавит его от кабалы непосильных расходов. Он, наверное, пошутил. А может быть, и нет.
Правда, ни несчастным, ни обездоленным он себя не чувствовал. Детей — Сюзи, Клару, Джин — он любил без памяти. И отношения с Ливи оставались самыми нежными, хоть Твена и смешила и раздражала старательность, с какой жена выискивала не вполне благозвучные выражения и чуточку крамольные мысли в каждой строчке, выходившей из-под его пера.
А все-таки семейная жизнь оказалась вовсе не такой, какой ему хотелось. Покоя и сосредоточенности, столь необходимых писателю, Твен не знал. И если бы не дочери, его не влекло бы домой так сильно. Там «всегда пахло святостью, отчего-то издающей точно тот же аромат, что и деньги».
Спасением от непрекращающейся суеты была Элмайра — это загородное поместье дали в приданое за Ливи. Здесь, в большом и удобном доме с видом на лесистые долины и сверкающие под солнцем ручьи, в которых ловили форель, Твен завершил «Тома Сойера». Здесь он создал свою книгу «Жизнь на Миссисипи» — последнюю перед «Геком». Да и лучшие главы самого «Гека» тоже написаны в Элмайре.
И здесь в 1882 году он писал повесть «Принц и нищий», где действие — впервые у Твена — разворачивается в очень давние времена: перед нами Англия середины XVI века.
Сюда, в Элмайру, приезжали лишь старые, испытанные друзья, и всех их поражали энергия Твена, его молодой задор, возбужденная речь и блеск в глазах, как только принималось решение прокатиться на лодке до дальнего плеса или устроить поход за перепелиными яйцами. В Элмайре, неразлучный с дочерьми, он точно бы снова становился Сэмом Клеменсом из Ганнибала. Он жил так, как, наверное, и должен был бы жить всегда. Хоуэлс, побывав в Элмайре, говаривал, когда его спрашивали о Твене: «Там он у себя дома, этот вечный подросток, — сердце мальчишки и голова мудреца».
В 1880 году, за год до рождения Джин, он написал в Элмайре «Пешком по Европе», напомнив своим читателям, что начинал с «Простаков за границей». Между двумя этими книгами, разделенными целым десятилетием, много общего. Твен ездил в Европу летом 1878 года вместе с другом, хартфордским священником Джозефом Твичелом, которого он изобразил в своих очерках под именем Гарриса — такого же американского простака, такого же неудачливого туриста, как пассажиры «Квакер-Сити» и как сам автор. Несколько месяцев они прожили, переезжая с места на место, в Германии, а в августе перебрались в Швейцарию и через альпийские перевалы на своих двоих тронулись к итальянским озерам.
Перед поездкой Твен просмотрел несколько книжек путевых очерков и с десяток справочников для туристов — это помогло найти нужную интонацию. Она была пародийной. Авторы очерков восхищались красотами Рейна и Монблана, а путеводители нахваливали уют швейцарских гостиниц и прелести немецкой кухни. Твен решил изобразить себя и Гарриса американскими недотепами, которые с доверчивостью следуют советам, вычитанным из книг, и всей душой жаждут поскорее добраться до старинных замков и горных пиков, окруженных романтическими преданиями.
За свои денежки они желают получить полную порцию европейских чудес природы и памятников культуры, но проверка делом показывает, что восторгаться-то нечем. На альпийских лугах черным-черно от восходителей — вместо поэтического уединения настоящий базар. А памятники, предания, легенды путаются в голове, так что выходит полная нелепость. Да и кормят отвратительно, а гостиницы старые и запущенные. Нет, за культурой нашим туристам не угнаться, лучше уж они останутся простачками американцами со своими немудреными понятиями.
Читатели «Простаков за границей» хорошо помнили эту твеновскую маску. Она пригодилась и в книге «Пешком по Европе». Пешком? А не лучше ли сесть в поезд, благо скорость все равно черепашья — три мили в час. А на Монблан можно и в подзорную трубу полюбоваться...
Правда, Твен счел, что хоть на одну вершину в Альпах он должен подняться обязательно, и снарядил экспедицию, в которую, кроме него и Гарриса, входили семнадцать проводников, три капеллана, два геодезиста, ветеринар, шеф-повар со штатом помощников, три прачки, две доярки и учитель латыни. Всех их, а также мулов, коров и носильщиков сразу же по выходе из отеля Твен прямо на площади связал веревкой, потому что в горах так полагается. Запаслись складными лестницами, ледорубами, нитроглицерином и сотней пар костылей, которые вскоре пригодились: мул проявил неуместное любопытство к ящику с взрывчаткой, лягнув его копытом, что привело к исчезновению самой знаменитой из местных скал и некоторому ущербу для личного состава доблестного альпинистского отряда.
Разумеется, отряд быстро сбился с тропы. Проводника послали на разведку, обвязав тросом и велев дать сигнал, когда он отыщет дорогу. Часа через два трос вдруг бешено задергался. Все повскакали с мест как полоумные и бросились бежать что было сил. Так бегали до самого вечера, пока не очутились перед той самой гостиницей, из которой тронулись в путь. И что же оказалось? Во всем был виноват этот проклятый гид. Повстречав на выгоне отставшего от отары барана, шельма проводник привязал трос ему к хвосту и преспокойно отправился к себе в деревню. А потревоженный баран долго носился по оврагам и впадинам, таща за собой на тросе всю компанию, пока не уперся лбом в свой хлев.
Читатели веселились: гротеск и небылица в руках Твена все то же безотказное оружие. Мимоходом оно могло задеть и простака американца: светского хлыща, похваляющегося шапочным знакомством с титулованными европейскими фамилиями, или находчивого предпринимателя, который на постаменте памятника поэту Фридриху Шиллеру намалевал рекламу изготовляемой им мази для полировки печей. Но по большей части твеновский юмор был нацелен на порядки и нравы Европы. По-прежнему Твену казалось, что его родина на голову выше этих одряхлевших монархий, как бы они ни похвалялись своим былым величием. И он, как десять лет назад, не щадил претенциозное и надутое — так ему казалось — европейское самолюбие.
Но вслед за этими комическими очерками были созданы «Приключения Гекльберри Финна».
А после «Гека» уже невозможно было писать так, как Твен писал до этой своей лучшей книги.
И оттого «Пешком по Европе» окажется последним твеновским произведением, в котором юмор облегчен и не предполагает особенно серьезных творческих задач, — важнее, чтобы рассказ все время смешил. Талант Твена останется тем же самым: комедийным, юмористическим. Но сущность юмора изменится. Он сделается и сдержаннее, и глубже. Все чаще он теперь будет впрямую соприкасаться с трудными и невеселыми размышлениями о том, что же все-таки представляет собой человек, и общество, в котором он живет, и опыт, который им накоплен за долгие века истории.
История, ее смысл, ее уроки интересовали Твена особенно сильно. И неудивительно, что все эти размышления заполняют страницы «Принца и нищего».
Никогда прежде Твен не обращался к исторический прозе. Но «Принца и нищего» он писал для своих дочерей и хотел поговорить с ними о самом главном — о том, каким создала человека природа и как меняют его природу условности и нелепости, несправедливости и жестокости, с которыми каждый сталкивается, вступая во взрослую жизнь. Он создавал философскую сказку. История была для него материалом гораздо более богатым, чем современность.
Но тут же возникали свои трудности. В историческом жанре существует собственная традиция и есть собственные корифеи — ими в ту пору, да и позднее, оставались Вальтер Скотт и Фенимор Купер. Прежде всего Скотт. Купера мы сегодня тоже считаем историческим романистом, но для своих первых читателей он был вполне злободневен: ведь события, о которых он пишет, — это война Америки за независимость, ранние годы фронтира, иначе говоря, время, еще очень близкое к тому, когда жил сам автор «Следопыта», «Прерии», «Последнего из могикан». А Скотт описывал действительно далекую эпоху — средневековье, крестовые походы, борьбу Шотландии против англичан, подвиги рыцарей и героев-простолюдинов.
Но между шотландским бардом и создателем Кожаного Чулка при всем том есть много общего. Оба они любили изображать людей сильных и независимых, выводя на сцену персонажей, имевших только отдаленное сходство с реальными историческими лицами и, скорее, воплощающих романтический идеал личности. Оба обладали способностью передать не просто колорит, а самую суть описываемой эпохи, и поэтому их так высоко ценили современники, к примеру Белинский, отзывавшийся и о Скотте, и о Купере с глубочайшим уважением. Оба больше всех других сделали для того, чтобы исторический роман из развлекательного чтения стал настоящей литературой.
Только неверно было думать, будто никто уже не сможет написать об истории иначе, чем Скотт и Купер. Между тем именно так и считалось. Подражали им обоим просто рабски, Скотту в особенности. И Твена эти бездарные копии раздражали так сильно, что он переставал замечать достоинства и в самом оригинале — в «Айвенго» или в «Роб Рое» и «Квентине Дорварде».
Конечно, он был неправ, когда с такой пристрастностью судил о своих предшественниках, создавших исторический роман как полноценный литературный жанр. Суть дела заключалась не в том, что Твен не принимал Вальтера Скотта. Это реалистическая школа не принимала романтическую. Такое в истории литературы случается постоянно. Романтики тоже отвергали тех, кому шли на смену, — классицистов да и просветителей. И были точно так же несправедливы, как Твен по отношению к ним самим.
С дистанции времени хорошо видно, что каждое крупное явление в искусстве необходимо, чтобы сложилась плодотворная традиция и возникла органичная преемственность. Но ведь дистанция эта должна возникнуть. А пока ее нет, кажется, будто ближайшие предшественники писали совсем не так, как нужно. И с ними спорят куда яростнее, чем с писателями, которые творили давно.
Вот потому-то столько ядовитых стрел выпустил Твен в Вальтера Скотта, когда — одновременно с работой над «Принцем и нищим» — заканчивал цикл очерков о жизни на Миссисипи в пору своей молодости. Впоследствии от него сильно достанется и Куперу — за мелодраматичные переживания персонажей и их цветистую речь, за неуважение к здравому смыслу и приверженность к пафосу, за то, что невежественный охотник у него изъясняется так, словно десятилетие провел среди придворных вельмож, и за другие «литературные грехи». Но Вальтера Скотта он изобличал еще язвительнее. Твену представлялось, что Скотт не просто привил литературе напыщенный стиль, но оказывал пагубное воздействие на своих многочисленных поклонников. Ведь, вместо того чтобы учить честности и мужеству, Скотт своими романами «заставляет весь мир влюбиться в сны и видения, в сгнившие и скотские формы религии, в глупость, пустоту, мнимое величие... безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего общества». Твен полагал, что нравы на американском Юге с его кичливостью и фанаберией были прямым результатом повального увлечения книгами сэра Вальтера. И значит, «он причинил неизмеримый вред, быть может, самой большой и стойкий вред из всех доселе живших писателей».
Всерьез к этим запальчивым суждениям относиться, разумеется, нельзя. О подлинной силе и подлинных слабостях Скотта они не говорят почти ничего. Зато многое говорят о том, чего Твен не хотел в собственных исторических романах. Он не хотел ни выспренности, ни театральных эффектов, ни «снов и видений».
Хотел он совсем другого: правды. И простоты. И естественности.
А кроме того, он стремился, чтобы любое его произведение, пусть и посвященное истории, заставляло задуматься над вещами сложными и важными, над вопросами, к которым рано или поздно приходит каждое поколение и которые каждое поколение должно для себя решить.
Твен заботился не столько о достоверности создаваемых им картин прошлого, сколько о том, чтобы они заставляли снова и снова задуматься, что истинно, а что глубоко ложно и постыдно в побуждениях и устремлениях людей, их образе мыслей, их поведении, в общем-то неизменных, как, по сути, неизменен во все эпохи и сам человек. У него не было ни малейшего преклонения перед стариной. Наоборот, старина — и уж тем более средневековье — его не притягивала, а отталкивала. Одному из друзей он как-то сказал, что не любит зарываться в книгах историков: «То, о чем они пишут, слишком для нас унизительно».
И с Вальтером Скоттом он спорил не только впрямую, как на страницах своих очерков о Миссисипи былой поры. Он полемизировал с великим шотландцем и тогда, когда описывал в своих исторических произведениях средневековые нравы, понятия и порядки далекого времени. Скотт с увлечением и патетикой изображал пышность королевских дворцов, утонченный этикет рыцарей, изысканных в обращении сановников, бесстрашных и чистых сердцем аристократов. А Твен на полях мемуаров герцога Сен-Симона, долгие годы проведшего при дворе французских королей Людовика XIV и малолетнего Людовика XV, — эту книгу автор «Принца и нищего» читал как раз во время работы над своей первой исторический повестью — записывает: «Двор — всего лишь сборище голодных псов и кошек, отчаянно дерущихся за кусок падали». Уже в рассказе о лондонском уличном оборвыше Томе Кенти и наследнике английского престола Эдуарде, принце Уэльском, придворная знать — все эти лорды, графы, пэры и канцлеры выглядят комично, чтобы не сказать — жалко. Четырнадцать лет спустя, повествуя о Жанне д'Арк, Твен покажет короля Карла VII и его окружение не просто жеманными и смешными паяцами, а преступниками.
Для Скотта седая старина была окутана романтикой. Англия в эпоху крестовых походов, Шотландия, еще сохраняющая свою вольность, пока англичане не осквернят ее обетованную землю, — во многом условный, рожденный воображением мир. Через напластования экзотики и красочности подчас и у него пробиваются штрихи, меняющие весь колорит рассказа. Какая-нибудь на первый взгляд мелкая подробность дает ощутить, что отнюдь не такими уж великодушными и самозабвенными героями были тогдашние вассалы короны, да и сами короли. А за идиллией обнаруживаются столкновения своекорыстных интересов, страдания народа, драмы рядовых людей.
Заслуги Скотта лучше всех понял и определил Белинский, заметив, что он «своими романами решил задачу связи исторической жизни с частною». И Белинский, и Бальзак больше всего ценили в этих романах именно то, что относилось к «частной» жизни отверженных, обманутых и гонимых. Но почитателям Скотта казалось, что главное для исторического писателя — это донести романтику, которую заключает в себе сам аромат старины. А такая цель требовала многого не замечать, приглаживать противоречия и сложности изображаемого времени. Пользуясь пушкинской строкой — отдавать «нас возвышающему обману» предпочтение перед «тьмой низких истин».
А Твен не выносил никаких обманов, пусть и возвышающих. И хотя в его исторической прозе, особенно в «Принце и нищем», нам встретится немало повествовательных приемов, которые мы уже встречали в книгах Вальтера Скотта, Твен без обиняков предпочел сказать о средневековье истину, даже если она была удручающей.
Помните, как Том Кенти, волею судьбы сделавшись на время английским королем, вершит суд над тремя лондонскими жителями из простонародья, схваченными стражей и уже приговоренными? Том и в Вестминстерском дворце остался тем же мальчуганом со Двора Отбросов, которому улица с ее незамысловатыми происшествиями несравненно интереснее, чем все изощренные забавы, предназначенные для принцев. Это и спасло невинно осужденных. А за что вели их на казнь? Одного из этих несчастных признали отравителем только по той причине, что человек, видом с ним схожий, дал больному лекарство, от которого началась рвота, приведшая к агонии. Двух других — за то, что сочли причастными к козням дьявола.
Это обвинение было без труда доказано: кто-то видел, как ведьмы снимали чулки, а потом началась буря — конечно же, по этой самой причине. И виселицы им теперь не миновать. Но мнимый отравитель и виселицу счел бы для себя благом. Потому что отравителей и фальшивомонетчиков по тогдашним законам полагалось живьем сварить в кипятке. А в Германии додумались до еще более хитроумной казни. Преступника сваривали не в воде, а в кипящем масле, постепенно опуская жертву в котел на особом блоке. Таковы были подлинные, а не приукрашенные понятия людей средневековья.
Вальтер Скотт в нескольких своих книгах тоже коснулся диких суеверий и жестокостей того времени. Но у него это была лишь пикантная приправа к рассказу, в котором господствовала стихия романтики и поэзии. Для Твена же эпизод с разбирательством «преступлений», в которых простодушный Том Кенти не нашел ровным счетом ничего крамольного, не было ни случайным, ни маловажным. Этот эпизод органичен и необходим для того полотна, которое Твен создает.
Может быть, особенно ясны его расхождения со Скоттом и со всей традицией, опирающейся на заветы сэра Вальтера, выступают на тех страницах «Принца и нищего», где главным действующим лицом становится не Том, не Эдуард, а народ, лондонская толпа. Огромным завоеванием Скотта была уже сама мысль, что не короли и герцоги, а народные массы в конечном итоге вершат историю. После Скотта исторический роман всегда исходил из этого убеждения, если только перед нами настоящая проза, а не подделка, рассчитанная на пустую занимательность.
И все же в романах Скотта центральное положение неизменно занимает герой-аристократ, а простой люд лишь помогает такому герою осуществить его замыслы и планы. Не приходится сомневаться, что Роб Рой никогда не добился бы своих целей, если бы его опорой не стали обычные шотландские крестьяне, повергшие в бегство выученных ратников-англичан. Ситуация, очень типичная для Скотта. Но догадываться, кто истинный творец истории, а кто просто вознесен на ее гребень благодаря своему родовитому происхождению, мы должны сами. Даже в массовых сценах, вызывавших справедливое восхищение первых читателей Скотта, народ скромно располагается на дальнем плане. А в фокусе оказывается рыцарь, или граф, или лорд, при любых обстоятельствах ведущий себя в соответствии с кодексом знатного джентльмена.
Поэтому и народ в изображении Скотта — именно масса, рисуемая одной краской и почти безликая. Это либо «добрые пуритане», единодушно преданные своему господину, либо гнусная чернь, которую господин сокрушает если не убеждением, так мечом. Точно у народа нет и не может быть собственных представлений и принципов, собственных — и порою очень несхожих, даже полярных — устремлений и пристрастий.
Нельзя осуждать Вальтера Скотта за подобный обман зрения. Он был романтик, а романтики, как бы они ни преклонялись перед народом, видели в нем некую единообразную стихию, некое единство, не ведающее внутренних противоречий. Но Твен был реалистом. И для него народ был не стихией и не абстракцией. Народ для него — это бесконечное множество самых различных индивидуальностей, каждая со своей судьбой и своим пониманием жизни.
Самые несовместимые побуждения — героика и приниженность, самоотверженность и рабский страх, бескорыстие сердца и зачерствелость души, жажда нравственной правды и отталкивающие предрассудки — перемешивались в этом неспокойном море, которое бурлит на мостовых и площадях средневекового Лондона. На страницах повести Твена возникает настолько емкий и такой непростой образ народа, что тут опасны какие-то однозначные суждения, какие-то категорические оценки.
В «Принце и нищем» народ обитает на Дворе Отбросов и в тайных лесных пристанищах нищих и воров, и покорно переносит гнет и насилие, которое чинит над ним всемогущий сэр Гью Гендон со своими стражниками да тюремщиками, и глумится над несчастным мальчишкой в лохмотьях, который называет себя английским королем. Уличная толпа не знает сострадания и милосердия: убийство — для нее развлечение, чужая беда вызывает в ней злобную радость, и только силу она признает законом. Не странно ли, что эти жестокие картины вышли из-под пера Твена, который сам происходил из народа и оставался непоколебимым демократом по своим убеждениям?
Нет, не странно. Твен выражал народные идеалы, но он не льстил народу и не приукрашивал реальное положение вещей. В тот год, когда был напечатан «Принц и нищий», американские газеты сообщили о ста четырнадцати случаях линчевания, на следующий год таких случаев было уже сто тридцать с лишним. И каждый раз разыгрывалась одна и та же драма: масса, подчинившись какому-нибудь крикливому демагогу, утрачивала всякий контроль над своими действиями и поддавалась самым низким инстинктам, животной ярости, жажде крови, которая должна пролиться у нее на глазах.
Мальчиком Сэм Клеменс видел, как погиб на главной улице Ганнибала фермер Смар и как, не владея собой, горожане кинулись расправиться с убийцей, а потом трусливо разбежались, наткнувшись на твердый отпор. Тот день запомнился ему навсегда, и через многие его книги пройдет образ обезумевшей толпы, в которой уже не различить человеческих лиц, потому что люди, охваченные стадным чувством, переставали быть людьми.
А раз это было возможно, значит, в человеке, в неприметном прохожем, затерянном среди тысяч таких же, как он сам, заурядных обывателей, таятся силы темные и страшные. И они способны вырваться наружу, если не осознать их честно и трезво, чтобы затем обуздать их подлинной гуманностью, подлинно доброй волей. Это одна из самых существенных идей, вложенных в повесть о Томе Кенти и принце Эдуарде. Вышедшая с посвящением Сюзи и Кларе Клеменс, повесть задумывалась как светлая сказка, для которой не так уж важно, действительный факт или легенда описываемые в ней события. Но Твен не мог жертвовать правдой, чтобы сказка получилась безоблачно радостной. А правда требовала от него суровых красок, резких интонаций.
И конечно, правда не была бы истинной, если бы Твен увидел в народе лишь толпу, неспособную ни к человечности, ни к сопротивлению тиранам вроде того же Гью Гендона. Народ — не одноликая масса, и Майлс Гендон, пришедший Эдуарду на выручку в отчаянную минуту, а впоследствии столько раз рисковавший головой, чтобы восторжествовала справедливость, — это тоже народ. И подданные Гью, в молчании стоящие вокруг позорного столба, когда их принуждали осыпать насмешками и проклятьями привязанного к этому столбу Майлса, — разве они не народ? Как и те две встретившиеся принцу в тюрьме женщины, которые так о нем заботились и прикололи ему к рукавам обрывки лент, перед тем как отправиться на костер, приняв за свою веру мученическую смерть. Как и адвокат, посмевший обличать бесчинства лорда-протектора и подвергнутый клеймению; как фермер, пополнивший шайку Гоббса, после того как разоривший крестьянскую семью английский закон превратил его в раба; как все эти встретившиеся Эдуарду на трудном его пути слепцы-нищие, и калеки с гноящимися ранами, и опухшие от голода дети, и бродяги, спящие вповалку на сырой земле у костра.
Народ обездолен и бесправен, народ до поры до времени безропотен и терпелив, народ, столетиями обреченный на жестокости и страдания, способен и сам становиться жестоким, причиняя страдания неповинным в его тяжкой судьбе. Но история — это не летопись захватнических войн и придворных интриг, а дело народа. Потому что она принадлежит народу.
Принц Эдуард поймет эту простую и великую истину, когда нежданный поворот событий заставит его соприкоснуться с народом впрямую. И он сумеет не только понять, а принять этот закон. Вот почему он станет одним из любимых героев Марка Твена.
«Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия» — так начинается «Принц и нищий».
А что происходило тогда в Англии на самом деле?
Было бедственное, тяжелое время. Корчилось в последних судорогах средневековье — в третьей четверти того же столетия родится Шекспир, символ Возрождения. Ломался ход истории. Феодалы отжили свое, теперь начиналось время промышленников, торговцев, банкиров — буржуазии. Английское государство крепло на глазах: отец Эдуарда Генрих VIII покончил со своеволием герцогов и графов, а сестра принца Елизавета — та очаровательная девочка, с которой любил поболтать и пошалить Том Кенти, — став в 1558 году королевой, сумела окончательно подорвать всевластие архиепископов и маленьких царьков, сидевших в родовых замках. Строился могучий флот, корабли под английским флагом бороздили все моря, омывающие Европу. Испания, главная соперница Англии, прислала к ее берегам громадную эскадру, кичливо именуемую Непобедимой Армадой, и англичане разбили ее наголову — правда, было это уже позже, через тридцать лет после воцарения Елизаветы.
А вот судьба другой приятельницы Тома Кенти, леди Джейн Грей, сложилась куда печальнее. Эдуард царствовал совсем недолго, и после его ранней смерти начались споры за престол. Принц Эдуард был влюблен в леди Джейн и ей отказал в своем завещании английский трон. Но победила другая придворная партия, а Джейн Грей была объявлена государственной преступницей и приняла казнь. Ей было всего семнадцать лет.
На трон возвели другую сестру Эдуарда — Марию. Народ прозвал ее Кровавой. И не напрасно. Она правила Англией лишь четыре с небольшим года, но за эти годы крови пролилось столько, сколько не проливалось за иные десятилетия. На пиках, установленных вдоль Лондонского моста, не успевали сменять черепа обезглавленных заговорщиков и изменников — казни происходили что ни день. А тех, кто попроще родом, швыряли в переполненные тюрьмы по любому поводу.
Впрочем, при Генрихе VIII все это уже было — и десятки тысяч узников в смрадных темницах, и виселицы, и перегруженные работой палачи. Бунтовали церковники, обиженные тем, что Генрих отобрал у них земли и угодья, плели интриги аристократы, которых король лишил привилегии создавать свои дружины — нередко посильнее регулярной армии. Самодержец твердой рукой вел государственный чертог к намеченной цели — ею была сильная, сплоченная монархия. Исторически правота была на его стороне. Но от этого ничуть не легче становилось английскому народу. Земля переходила под власть короны, а крестьян сгоняли с их наделов, заставляя бежать в города, где они жили кто воровством, кто подаянием. Фабрик было еще немного, и они не могли принять всех, кто стоял у их ворот. Маркс напишет об этой эпохе: «...люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной своей новой обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг — частью из склонности, в большинстве же случаев под давлением обстоятельств».
Не раз они поднимались на борьбу. Двор и аристократия были напуганы восстанием крестьян в Норфолке. Возглавивший восстание мелкий дворянин Роберт Кет провозгласил: «Лучше нам взяться за оружие, лучше привести в движение небо и землю, чем терпеть такие ужасы». Было это в 1549 году, когда престол занимал Эдуард VI — тот самый принц, о котором пишет Твен. Историк Дэвид Юм, чью книгу Твен часто упоминает в своей повести, характеризует Эдуарда как «человека мягкосердечного, питавшего склонность к справедливости и равенству своих подданных перед законом», но вместе с тем «лицемерного и не чуждого жестокости в силу полученного им воспитания и условий времени, в которое он жил». Роберта Кета он послал на казнь.
Но народ считал Эдуарда добрым правителем. О нем ходили предания, сильно преувеличивавшие его незлобливость и демократичность. Этому способствовали и загадочные обстоятельства его смерти. Эдуард VI умер семнадцатилетним от какой-то неведомой в те времена болезни. Пока шла распря из-за трона, вельможи скрывали, что у короны временно нет владельца. И долго еще ходили слухи, что на самом деле король жив и скрылся, чтобы вместе с народом выступить против богачей и сановников.
На почве таких легенд, глухими отголосками дошедших до XIX века, возможно, и родился замысел Твена. Однако, взявшись за «Принца и нищего», он заботился не о том, чтобы придать легенде видимость действительного события, как поступил бы на его месте романтик. Твену гораздо важнее было воссоздать эпоху в ее истинности. И он, опираясь на документы и старинные хроники, показывал Англию времен Тюдоров разоренной, страшной страной, где на одном полюсе роскошь и изысканность, на другом — нищета и грязь, где трущобы битком набиты вчерашними крестьянами, обреченными на голод и мытарства.
Майлс Гендон сетует: не осталось в этой стране честных людей, одни трусы и лжецы. А Том Кенти, стараясь в меру своего разумения управлять Англией снисходительно и справедливо, выслушает упреки святоши Мэри, будущей Марии Кровавой: преступников и подозрительных нельзя миловать. Покойный Генрих за годы своего царствования отправил на тот свет семьдесят с лишним тысяч человек — какой достойный пример потомкам!
На таком вот фоне развертывается в повести Твена история двух мальчиков, настолько друг на друга похожих, что различить их удается только по одежде: один всегда в шелках, другой вечно в нищенском рубище. Наверное, если бы не законы общества, они с малолетства могли бы стать близкими, как братья. Но хотя Твен описывает происшествие, которое возможно только в сказке, дух времени и страна, где живут герои, воссозданы на его страницах с такой тщательностью, точно бы он сам жил в Лондоне за три с лишним столетия до того, как появился «Принц и нищий». И поразительное природное сходство Тома и Эдуарда вовсе не затушевывает того обстоятельства, что одному из них уготована жизнь на Дворе Отбросов, другому — в Вестминстерском дворце, местопребывании английских королей.
Поменялись местами они по той единственной причине, что сначала поменялись костюмами. Переодевание у Твена — обычный, излюбленный мотив. На Джексоновом острове индейцами обрядились Том, Гек и Джо Гарпер, а в повести о Геке Финне ее герой наряжается девочкой, тогда как Жанна д'Арк предстанет перед читателем в обличье рыцаря — кольчуга, шлем, шпага. Каждый раз возникает ситуация необычная, и она может оказаться смешной, но может — и очень серьезной. Для Твена в этой ситуации неизменно заключен поучительный смысл. Одежда — знак условностей, которые разделяют людей, хотя природа не знает ни принцев, ни нищих, ни рыцарей, ни простолюдинов, ни угнетателей, ни угнетенных, ни благовоспитанных, ни дикарей и бродяг. Это общество так устроено, что в нем на каждом шагу различия — по социальному положению, по воспитанию и образованию, по цвету кожи. А от природы все равны. И герои Твена постигают это, хотя реальная жизнь то и дело заставляет примерять ту или другую маску, разыгрывать ту или иную роль или, наоборот, всеми силами стараться освободиться от маски, от роли, навязываемой существующим в их мире порядком вещей.
Гью и Майлс были братьями по крови и непримиримыми врагами по сути. А Том и Эдуард по крови не имели друг с другом ничего общего, но довольно было, чтобы они поменялись платьем, и уже никто бы не сказал, где принц, где нищий. У себя в трущобе Том пользовался лишь одной королевской привилегией — обедать в шляпе, кто бы ни сидел рядом. И во дворце он поначалу смущался, путался, но как быстро, как легко овладел повадками принцев, хоть на обед у него были теперь изысканные яства, а не объедки и заплесневелые корки. Маску короля он для себя создал задолго до того, как фортуна вознесла маленького уличного попрошайку на немыслимую высоту, и эта маска пришлась ему как нельзя впору. Он увлекся своей поддельной жизнью, позабыв об истинной. Куда только подевались острый ум и чувство нравственной правды, так поразившие сановников, когда Том в первый раз занял место на троне! Маска меняет его до неузнаваемости.
И вот он уже в плену ложных понятий, принятых во дворцах, и незаконность его притязаний на престол не тяготит совесть Тома Кенти, хотя прошло всего несколько недель, как его сочли принцем Эдуардом, о котором ему теперь не хочется вспоминать. Поначалу для него не было разницы между понятиями король и пленник, и он вполне искренне хотел, чтобы воля короля была законом милости, а не законом крови. Его смешили все эти обершталмейстеры, лорды опочивальни и подвязыватели королевской салфетки, хлопотавшие над ним, как над куклой, он не мог понять, чем прогневал всевышнего, который запер его в роскошной темнице, отняв солнечный свет, свежий воздух, свободу и естественность поведения, возможность всласть побегать и поиграть — незаменимые блага его несытого, зато интересного и яркого детства. Он даже завидовал мальчику, исполнявшему странную должность пажа для порки и зарабатывавшему свой хлеб спиной, приученной к розгам за провинности принца.
Но маска незаметно для самого Тома становится его сущностью. Во всяком случае, грозит ею стать. Он все так же добр к обиженным и все так же суров к законам, которые считает несправедливыми. А тем не менее слуг у него уже втрое больше, чем было у настоящего принца. И до чего приятно заказывать себе новые наряды, когда захочешь, или при случае одернуть какого-нибудь заносчивого вельможу, смерив его таким взглядом, что того охватывает смертная дрожь.
Он даже готов отречься от своей матери — ей, привыкшей к побоям и голоду, не место среди блестящей свиты юного самозванца. Его страшит сама мысль вернуться в свой нищий квартал, сменить алый камзол на грязное тряпье и снова просить милостыню или идти к ворам.
Так маска враждует с человеческой природой и искажает ее бесчеловечно.
А принц Эдуард, наоборот, освобождается от роли, которую послушно исполнял едва не с колыбели, и тогда за маской все отчетливее выступает лицо — прекрасное, не изуродованное ни хитростью, ни двоедушием лицо ребенка.
Однажды Твен полушутя заметил, что испытывает доверие лишь к детям и к юродивым — они одни не выучились врать. Все его герои — не персонажи, именно герои — очень юны: и Том, и Гек, и Жанна д'Арк, которую считали блаженной. Они могут, не разобравшись в сложностях взрослого мира, судить о нем слишком прямолинейно и поступать наивно или затевать игру, когда она неуместна, но не лукавят, не поддаются ни лжи, ни трусости, не признают расчета, если он требует заглушить голос сердца. А для Твена во всей вселенной не существует ничего дороже, ничего истиннее, чем бескорыстие и искренность, свойственная им всем.
И принц Эдуард такой же. Даже те, кто знал его только во дворце, не сказали бы, что он бессердечен и холоден. Наоборот, Эдуард по-своему отзывчив и пылко бросается защищать правду, как он ее понимает. Но вот беда: справедливость равнозначна для принца его личным желаниям и капризам. Сама по себе, как обязанность для каждого, она Эдуарду неинтересна.
Он вырос в мире утонченности, праздности, лести и не догадывается, что это тепличный, ненастоящий мир. От настоящего мира его заботливо изолируют, и он даже не подозревает, что есть другая жизнь, где много грубого и жестокого, но зато не разучились ценить дружбу и взаимовыручку и умеют радоваться простым неподдельным дарам — погожему дню, теплому ночлегу, вкусной похлебке...
Как трудно даются принцу уроки подлинной жизни! Все его представления поколебались. И ему приходится ломать самого себя, отказываясь от привычки в одном себе видеть меру истины, считая свои мимолетные желания потребностью народа, свои прихоти — благом страны. Но до чего же это болезненно — расставаться со всем тем, во что верил, не задумываясь, не сомневаясь.
Не странно ли, что люди так меняются, когда их возносит или сбрасывает на дно капризная судьба? Не странно ли, что всего в нескольких милях от Вестминстерского дворца расположен Двор Отбросов — и это два мира, между которыми, кажется, нет ничего общего? Или все-таки есть? Ведь Том Кенти, облачившись в королевский наряд, стал в точности таким же, каким прежде был принц Эдуард. А принц, пока он жил среди лондонского сброда, не хуже Тома выучился отличать жертвы от хищников. И оба старались защищать добро, делая это простодушно, но почти безошибочно.
Так, видимо, все дело в том, что одни рождаются в дворцах, а другие в грязных ночлежках, одни колют орехи тяжелой печатью из золота, а другие рады куску черствого хлеба. Все дело, должно быть, в неравноправии, в скверном устройстве общества, и только.
Последние страницы «Принца и нищего» светятся радостью. Справедливость торжествует. Злодеи наказаны. Закон милости, а не закон крови будет править Англией, вручившей корону тому, кто ее истинно достоин уже потому, что юн и, стало быть, чист душой.
Но уже в следующем произведении Твена на исторический сюжет все намного сложнее, сумрачнее и печальнее.
Вскоре после того, как был закончен «Гек Финн», Твен вновь предпринял поездку по США с публичными чтениями. Его сопровождал писатель Джордж Кейбл. На эстраде, дожидаясь своей очереди, Твен с любопытством вслушивался в рассказы Кейбла, посвященные шумному и пестрому Новому Орлеану, где тот провел почти всю свою жизнь. Твен хорошо знал этот город с юности, но никто не изучил Новый Орлеан лучше, чем Кейбл. И проза его была какая-то необычная — длинные закругленные периоды, обилие редких, причудливых слов.
Как-то Твен спросил своего спутника, где он отыскивает такие витиеватые выражения и обороты. Кейбл отправился к себе в номер и принес большую старую книгу. Она была переложена закладками и основательно потрепалась от частого чтения. Автором книги был Томас Мэлори, называлась она «Смерть Артура».
Твен принялся читать и уже через две страницы хохотал до слез. Всю ту поездку, продолжавшуюся два с лишним месяца, он не расставался с романом Мэлори и решил, что непременно напишет пародию на него. Писать он начал сразу по возвращении домой, но книга — «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» — появится лишь в 1889 году, пять лет спустя. И окажется совсем не такой, какой первоначально задумывалась.
Замысел был простым. Мэлори, английский писатель, живший в XV веке — чуть не за целое столетие до Тома Кенти и принца Эдуарда, — в своем романе объединил и обработал многочисленные сказания о легендарном короле бриттов Артуре и о рыцарях Круглого стола. Согласно преданию, при дворе Артура существовал особый стол, за которым собирались лишь самые прославленные и благородные рыцари. С кубком доброго вина в руках они рассказывали о своих подвигах и чудесах, которые им встретились.
Эти предания и легенды зародились очень давно. Историки до сих пор спорят о том, какая из историй об Артуре и Круглом столе самая старинная. В них, несомненно, есть сюжеты и персонажи, пришедшие из устных сказаний кельтов, хорошо известных еще филологам Древнего Рима. И одно время даже считалось, что все это просто народные сказки, сложенные еще до того, как на Британские острова вторглись англосаксы — а это случилось в середине V века. Но археологические раскопки показывают, что некоторые события, упоминаемые в артуровских преданиях, происходили на самом деле. И вероятнее всего, что предания по большей части и возникли как раз в ту пору, когда кельты — бритты, ирландцы, шотландцы — боролись с племенами саксов, ютов, фризов, англов, прибывшими с Европейского континента. Борьба была жестокой и длительной. Она не утихала все VI столетие, когда, видимо, и родились рассказы о короле, возглавившем сопротивление непрошеным пришельцам, и о его славных отважных рыцарях.
Впрочем, и сегодня выражают сомнение в том, что король Артур действительно существовал. По одной версии, он был римским легионером, хотя римляне покинули острова еще в 407 году. По другой — кельтским вождем. По третьей — его вообще не было, а все истории о нем выдуманы. В общем-то, это не так уж и важно. А важно другое: выдуманные или отразившие реальные факты истории об Артуре оказались на удивление живучими. Их продолжали рассказывать, записывать, дополнять многие века.
Возник особый литературный жанр — рыцарский роман, исключительно распространенный в средние века. Сначала он писался стихами, впоследствии прозой, но это не меняло его содержания. Героями оставались рыцари, совершающие одно героическое деяние за другим и на поле брани, и в поединках чести, и в странствиях по белу свету с целью отыскать таинственную чашу Святого Грааля — в нее один из учеников Христа собрал по каплям пролившуюся при распятии кровь, и она стала символом высокой нравственной чистоты.
Герой Сервантеса — добрый и бесстрашный Дон Кихот — прочел не один десяток таких романов. И уже хотя бы по этой причине Марк Твен, для которого не было писателя выше, чем великий испанец, не мог не заинтересоваться книгой Мэлори, когда она попала к нему в руки. Ведь эта книга была не только самым прославленным рыцарским романом, но как бы обобщением их всех.
О самом Мэлори мы знаем не многим больше, чем о воспетом им короле. «Смерть Артура» отпечатал лондонский типограф Кэкстон в 1485 году и предпослал книге вступление, в котором уверял, что эту рукопись ему принес человек, живший в графстве Йоркшир и отличавшийся буйным нравом, привычками феодала, не признающего над собой никакой власти. Видимо, это и был Мэлори. В его времена рыцарство доживало свой век. Один рыцарский орден за другим, обнищав, закрывались. Ни корона, ни церковь больше не нуждались в услугах далеких потомков сэра Ланселота и сэра Персиваля, прославившихся при дворе Артура. И они становились всего-навсего мелкими разбойниками, захудалыми помещиками или обыкновенными ратниками на службе у государства, а еще чаще — у земельных магнатов.
Такой, вероятно, была и судьба Мэлори, а сказочные времена, когда рыцарь был подлинным господином, приближенным к престолу и вершившим важные дела, вызывали у него тоску и зависть. Уже издатель Кэкстон не сомневался, что в печатаемой им рукописи много вымысла и прекрасных, но беспочвенных легенд. Твен с его скептическим умом сразу же решил, что у Мэлори одни выдумки, а какими были рыцари в действительности, он попытался вообразить сам. И уже среди его первых записей, относящихся к будущему роману, можно встретить следующую: «Странствующий рыцарь средних веков, сталкивающийся с тогдашними нормами, хоть он наделен современным мышлением. Броня — ни одного кармана. Невозможно почесаться, когда зуд. Насморк — просто несчастье, о железные нарукавники нос не вытрешь, а платков нет. На солнце броня раскаляется, в дождь протекает, зимой в ней чувствуешь себя, как в морозилке. От вшей и блох нет спасения. Самостоятельно ни одеться, ни раздеться. Молния бьет в латы прямым попаданием».
В романе все это останется, вплоть до тяжких переживаний героя, по рассеянности засунувшего платок в свой шлем и изнемогающего от пота и от мух, набившихся под забрало. Твен не находил в средневековье ничего поэтичного. Возможно, он бы отнесся к той отдаленной от нас эпохе более справедливо, если бы не целый сонм запоздалых романтиков, которые на разные лады воспевали Артура с его паладинами1, словно VI столетие со всем его мракобесием и дикостями было золотым веком для человечества. Современники Твена носили на руках Альфреда Теннисона, английского поэта, в чьей книге «Королевские идиллии» артуровские легенды стали поводом для воздыханий о невозвратной поре счастливого детства людей. Громкой славой пользовался еще один такой певец средневековой идиллии, тоже поэт и тоже англичанин, — Алджернон Суинберн, щедро черпавший из сокровищницы преданий об Артуре.
Все это не могло не раздражать Твена. Описывая Британию под властью короля Артура, он не пожалел мрачных и ядовитых тонов. Сам Артур под его пером вышел самонадеянным и кичливым невежей, рыцари выглядели злобными фанатиками или просто болванами, облаченными в многопудовые доспехи, а их нежные возлюбленные и чаровницы-феи предстали капризными истеричками, вымогательницами или просто вампирами из страшных сказок про людоедов.
«Мой тайный замысел, — признается герой романа Хэнк Морган, — был именно таков: ослабить рыцарство, сделав его смешным и нелепым». То же самое мог бы сказать о своем намерении сам Твен. На страницах «Янки из Коннектикута» впрямую сталкиваются «волшебство чернокнижия» и «волшебство науки». Чернокнижие обречено проиграть, оказавшись бессильным. Рассеивается туман романтики, которой пытались окружить короля Артура литературные современники Твена. Наглядно выступает истина о том далеком и мрачном времени.
Но это только самый верхний слой содержания твеновской книги.
Она начинается с события совершенно невероятного. В драке кто-то крепко хватил Хэнка Моргана по голове, и, когда пострадавший очнулся, выяснилось, что из американского города Хартфорда — того, где жил и Твен, — он переместился на Британские острова, а из девятнадцатого века — в шестой. До того как это случилось, Хэнк был механиком на заводе. Кроме банков и контор, в Хартфорде было много предприятий, в основном оружейных. Попав к королю Артуру, Хэнк смастерит двенадцатизарядный кольт. Это спасет ему жизнь, когда сэр Мерлин — главный маг государства и ожесточенный противник нашего героя — напустит на него весь цвет рыцарства в кольчугах и латах.
Он типичнейший американец, этот Хэнк Морган, настоящий янки до мозга костей. Чем-то он похож на Тома Сойера — ну хотя бы пристрастием к броским, театральным эффектам, когда вполне возможно покончить дело просто и разумно. А чем-то напомнит и Гека. В детстве он всегда запасался пуговицами, отправляясь на молитвенное собрание, где миссионеры собирали пожертвования для религиозного просвещения дикарей-язычников. Деньги, выдаваемые на этот случай родителями, Хэнк предпочитал оставлять себе: дикарям все равно, что монетка, что пуговица, а ему это вовсе не безразлично. Гек, конечно, поступил бы в точности так же. Да и с этой надоедливой, не дающей покоя совестью отношения у Гека и Хэнка примерно одинаковые: совесть — вроде наковальни, которую таскаешь в себе, хотя до чего это тяжело и неудобно! Но оба они не могут избавиться от своей ноши, а честно говоря, и не хотят от нее избавляться. Ведь жить, позабыв о совести, человек не в состоянии. Это и Гек, и Хэнк знают твердо.
Вопрос о том, что считать жизнью по совести, а что — грехом перед самим собой. Тут между Геком и Хэнком намечаются различия, и немалые. Потому что для Гека действительность, с которой он соприкасается, устроена плохо, несправедливо, а подчас и уродливо. Но Хэнк всего этого словно и не замечает. Америка ему кажется прекрасной, великолепной страной, тем более что она уже положила конец рабству, своему единственному пороку. И в королевстве Артура он принимается наводить те же порядки, к каким привык у себя дома. Он безоговорочный сторонник цивилизации американского образца. Он никогда не согласится, что у нее есть свои изъяны и несовершенства.
И чем активнее занимается Хэнк цивилизаторской деятельностью, тем больше становится похож на заокеанских туристов, которые разукрашивали рекламными надписями постаменты памятников и стены древних соборов. К рекламе, кстати, у Хэнка тоже особая страсть, и его стараниями рыцари вскоре разъезжают по дорогам страны уже не в качестве воинов, а в роли рекламных агентов. На их стальных латах аршинными буквами расписаны достоинства производимого Хэнком мыла и изобретенной им зубной щетки.
Конечно, реклама не самое главное для Хэнка, это лишь вершина целой пирамиды, которую он выстраивает. А в фундаменте должны находиться заводы и железные дороги, телефонная связь, телеграфные аппараты, электростанции — словом, средства производства, какими располагала Америка конца прошлого столетия, — и тогда пирамида начнет быстро расти и вверх, л вширь. Будет уничтожено рабство, установлены справедливые налоги, подорвано владычество церкви, определены полезные для общества занятия всем бездельникам, похваляющимся родовитостью предков и занимающим придворные должности, хотя они не умеют ни читать, ни считать. И в результате получится республика. А Хэнк станет ее первым президентом.
Прекрасный план, только он провалится с треском, пусть Хэнку многое удалось: наладить телеграф, посадить армию на велосипеды — не то что в тяжелой амуниции плестись на изнемогающих лошадях! — и открыть бюро патентов, и организовать первую газету, сразу же усвоившую приемы журналистики в Теннесси. При помощи обыкновенного ковбойского лассо Ханк запросто расправился со всеми знаменитыми героями Круглого стола, а два-три взрыва, которые он произвел, да еще его кольт, пробивавший самую прочную кольчугу, раз и навсегда обеспечили задиристому янки репутацию величайшего чародея и властелина в артуровском царстве. Но куда сложнее оказалось ему осуществить главную свою цель — добиться, чтобы бесперебойно и эффективно работала созданная им особая фабрика, где «незрячие и тупые автоматы», как он именует подданных короля Артура, превращались бы в людей. Из этой вот затеи не вышло ничего. Бедствующие, забитые, бесправные и неграмотные кельты не захотели сделаться американцами наподобие самого Хэнка, который настоящими людьми признавал лишь таких, как он сам. И выяснилось, что невозможно одним махом перескочить через тринадцать с лишним столетий истории.
Отчего же так получилось, несмотря на всю удачливость, сопутствующую Хэнку Моргану при дворе Артура, и на все его всемогущество среди «автоматов»? Об этом Твен и размышляет в своей сказке, наполненной отзвуками старинных преданий и событий, отразившихся в средневековых романах, летописях, хрониках. И сказка — местами смешная, местами печальная, таящая в себе многие неожиданные сюжетные ходы и интересная от первой до последней страницы — побуждает нас самих задуматься над вопросами очень непростыми.
Они глубоки и трудны, эти вопросы. Что такое прогресс? И когда он истинен, а когда мним? Возможно ли, чтобы человек оказался выше и мудрее своей эпохи, или же он всегда скован ее предубеждениями, ее поверьями, нелепыми для далеких потомков? И отчего так прочны основания, на которых держатся насилие, гнет, несправедливость? И насколько мы, живущие сейчас, принадлежим текущему времени, а насколько — лишь продолжаем биться над сложностями, которые выявились уже во времена короля Артура, а то и еще раньше и, в общем-то, остаются, по сути, все теми же самыми, как бы ни изменилось общество и каких бы успехов ни добилась цивилизация?
История, если видеть в ней смены династий, войны, возвышение одних народов и упадок других, была Твену совсем не так важна, как была ему важна схожесть конфликтных ситуаций и острых противоречий, с которыми сталкивается человек, где бы и когда бы он ни жил. Свет истории помогал увидеть такие конфликты, такие противоречия с резкой отчетливостью. И вот почему Твен писал о рыцарях Круглого стола, об Англии в канун Возрождения, о Жанне д'Арк и Столетней войне.
Его не слишком заботила верность деталей. Возможно, при Артуре, если и впрямь существовал такой король, законы и обычаи были иными, чем описанные в «Янки из Коннектикута», возможно, историки признают созданную Твеном картину неточной. Все это не самое существенное. Достоверен сам факт, что подобные обычаи и законы существовали, и в них отразилось определенное представление людей о своем месте в мире и о нормах общественного устройства, определенная мораль и философия жизни.
А значит, отразился в них и сам человек со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Со своими исканиями истины, своими заблуждениями, надеждами, иллюзиями, предрассудками, страхами, которые, пусть по-новому, но непременно дадут о себе знать и сегодня, через столько веков. Формы жизни, конечно, меняются, и меняются проявления человеческих чувств, строй мыслей, характер переживаний. А все-таки, по убеждению Твена, человек в сущности тот же, каким и был всегда, и не искоренимы ни его истинные достоинства, ни самообольщение и пороки.
Об этом и хотел сказать Твен в «Янки из Коннектикута». Хэнку поначалу все кажется диким в той стране, куда он попал. Но осваивается наш герой в этом причудливом королевстве достаточно быстро. И убеждается, что эти кельты на поверку почти такие же, как американцы, только они сильно отстали от современных веяний.
А может, не так уж и сильно? У них рабство, но ведь и в Америке совсем недавно было рабство, и караваны невольников, и бичи надсмотрщиков, и разлученные семьи, в общем, все те жестокости, которые потрясли Хэнка, когда волею авторской фантазии он сам был продан с торгов. У них страшные тюрьмы, где люди за пустячный проступок томятся десятилетиями, но разве многим лучше американская тюрьма, куда «друг Гольдсмита» из рассказа Твена попал лишь по той причине, что был китайцем. У них какой-нибудь важный лорд вправе повесить своего холопа за попытку бунта, но и в Америке разъярившаяся, науськиваемая подстрекателями толпа линчевала настоящих или мнимых преступников, не разбираясь, в чем те провинились.
У них дети развлекаются игрой в виселицу, только ведь и американские сверстники Тома и Гека забавы ради играли в охоту на беглого негра или в войну с индейцами, требующую непременно снять скальп врага.
У них соседи человека, бежавшего из темницы, куда он был брошен по произволу феодала, скопом помогают ловить этого горемыку, и Хэнк возмущается подобной низостью и трусостью. Но тут же он вспомнит, что в недавнюю Гражданскую войну белые бедняки с Юга «взяли ружья и проливали кровь свою за то, чтобы не погибло учреждение, которое их же и принижало».
И, насмотревшись таких вот зловещих совпадений, Хэнк скажет с досадой: «Право, иногда хочется повесить весь род человеческий, чтобы положить конец этой комедии».
Скоро подобные настроения — очень мрачные, беспросветные — начнут все чаще посещать Твена, коренным образом изменив отношение к нему соотечественников, не узнававших былого юмориста. Пока это еще не самая заметная нота. Но для «Янки из Коннектикута» она не случайна. Ведь Твен стремится понять истинную меру и истинную цену прогресса. И выходит, что о прогрессе нельзя судить, подразумевая, подобно Хэнку, одни лишь технические новшества, вроде железной дороги между Лондоном и столицей Артура Камелотом или пароходов, поплывших по Темзе перед изумленными взглядами людей VI века. Нет, прогресс — это прежде всего способность человека наконец-то разрешить вечный спор гуманности и бесчеловечности так, чтобы во всех сферах жизни восторжествовал подлинный разум, победило подлинное добро. А если так, то за тринадцать столетий, разделяющих артуровскую Британию и Америку времен самого Твена, человечество продвинулось по пути прогресса совсем незначительно. Даже, пожалуй, и вовсе ничего не достигло.
Поэтому и не удается замысел Хэнка учредить республику американского образца на месте феодальной монархии. В отличие от него, подданные короля Артура не могут прозревать ход истории. Их представления о республике смутны, но, вникая в проекты янки, уже и они постигают, что в грядущей республике никуда не денется, а лишь изменит свой облик «позолоченное меньшинство», которому принадлежит вся власть. И рабство тоже сохранится, пусть в иной форме. И о человеке все так же будут судить не по его личным качествам, а по его чину, рангу и богатству. Исчезнет аристократия, не такой всесильной станет церковь, но всего этого слишком мало, чтобы канули в прошлое несправедливость и угнетение и чтобы человек ощутил себя по-настоящему счастливым.
И Хэнку остается лишь горько сетовать на отсталость и тупость жителей артуровского королевства, именуя народные массы стадом овец, не способных понять собственное благо, а потом с тоской наблюдать, как рушится фундамент цивилизации, возведенный его стараниями. Записки янки обрываются на полуслове. Автор, выдающий себя лишь за издателя и комментатора этой рукописи, врученной ему забавного вида незнакомцем, которого он встретил, осматривая в Англии коллекции одного исторического музея, ограничивается очень кратким описанием последних часов пребывания Хэнка Моргана на земле. В предсмертном бреду янки называет имена своих спутников по странствиям в королевстве Артура. Какой точный штрих! Хэнк снова преодолел время и вернулся в свой Хартфорд, но душа его осталась в том самом средневековье, которое так проклинал деловитый и изобретательный механик-американец.
Видимо, что-то сломалось в его стройных и недалеких представлениях о цивилизации, прогрессе, демократии, счастье. Видимо, после своего таинственного приключения он по-новому взглянул на привычные ему с детства порядки — и, сам это не до конца сознавая, потянулся к иной эпохе, к другим берегам, к жизни, совсем не похожей на американскую будничность. Она ничем не лучше, эта другая жизнь, она груба, жестока, примитивна — от Твена странно было бы ожидать романтических вздохов о золотых временах рыцарства. Просто прямой контакт двух далеких друг от друга эпох, осуществляющийся на страницах «Янки из Коннектикута», обнажил несовершенство реальной американской действительности и иллюзорность свершений, которыми так гордились американцы, подобно твеновскому герою.
Но ведь оторваться от этой действительности, перенесясь в былой век, возможно лишь в сказке. А сказка кончается на последних страницах книги, оставляя Хэнка перед лицом проблемы, для него неразрешимой. Реальность Хартфорда ему скучна и тягостна. А пригрезившийся двор Артура уже невозвратим. И, говоря словами Твена из подготовительных записей к роману, янки «теряет всякий интерес к жизни... задумывая самоубийство».
Так вот невесело завершается книга, поначалу казавшаяся только еще одной остроумной пародией на ходячие вздорные идеи. Работая над ней, Твен искал ответа на сложнейшие вопросы, которые ставит перед человеком жизнь, и ответов не находилось — во всяком случае, таких, которые бы его удовлетворили. Но Твен был не из тех, кто готов легко капитулировать, столкнувшись с подлинной сложностью и даже с драматической полярностью взаимоисключающих начал, которые, однако, совмещаются и в реальности, и в самом человеческом сознании. Он хотел объяснить окружающий мир, добравшись до его сути, и он верил, что в мире не иссякают бескорыстие, самоотверженность, доброта, жажда справедливости, не гаснет истинная человечность.
И в этом его тоже убеждала история.
Сэр Мерлин, пользовавшийся за Круглым столом славой великого провидца, предсказывал: Францию погубит женщина и женщина же ее спасет. Пророчество сбылось восемьсот лет спустя. Давние раздоры между французами и англичанами привели к войне настолько затяжной и опустошительной, что ничего подобного ей люди еще не знали. Война эта началась в 1337 году и с небольшими перерывами тянулась до 1453 года, когда Англия, наконец, признала свое поражение. Одним из самых тяжелых испытаний для Франции оказалась битва при Азенкуре (1415), где сложили голову сотни французских рыцарей, ведомых королем Карлом VI. Весь французский север отошел под власть англичан. Карл впал в безумие, его жена, королева Изабо, предала свою страну. Она-то и явилась женщиной, вознамерившейся погубить Францию.
А за три года до Азенкура в деревне Домреми родилась та женщина, которая Францию спасет.
Звали ее Жанна. Была она дочерью крестьянина Жака Дарка. Позднее, когда она совершит свои подвиги и станет для народа святой задолго до того, как святой ее объявит отправившая Жанну на костер католическая церковь, властители Франции сочтут неприличным, чтобы спасительница страны была низкого происхождения, и переиначат ее фамилию на дворянский лад — Жанна д'Арк.
Народ запомнит ее Орлеанской девой.
Для Твена Жанна была «бессмертным семнадцатилетним ребенком». Ее образ занимал Твена долгие годы. В Руане, где Жанну сожгли, хранились документы позорного судебного разбирательства, как и Оправдательного процесса, затеянного через двадцать пять лет после мученической гибели Девы. Твен изучил их со всей тщательностью. В сказке о принце и нищем, в романе о янки можно было дать волю воображению — подробности эпохи здесь не столь уж обязательны, все решает философский смысл повествования. В книге о Жанне требовались достоверность и точность. Потому что Твен писал о подвиге, для народа бессмертном.
Он был не первым писателем, загоревшимся идеей рассказать о Жанне. И не последним. Сколько раз пленяла воображение художников ее краткая героическая жизнь во всем своем величии, во всей жестокой парадоксальности невероятного взлета и страшной развязки! Жанне посвящена одна из лучших драм Шиллера, который воспринял подвиг французской пастушки как величайший и непреходящий пример нравственного мужества. А современник Шиллера, скептичный острослов и вольнодумец Вольтер, которому поклонялась вся передовая Европа XVIII века, написал едкую и злую поэму «Орлеанская девственница», где о Жанне не говорилось почти ничего, зато крепко доставалось «гадине», как он именовал церковь. «Гадина» всегда была главной мишенью вольтеровской сатиры. Но облик Жанны под пером Вольтера исказился до карикатурности. Критики возмутились — и справедливо. Один английский журнал обвинил Вольтера в том, что он «присовокупляет поругание к смертным мучениям Девы». Пушкин цитирует этот отзыв в своих заметках.
Пролетели десятилетия, и имя Жанны снова оказалось у всех на устах: столпы католичества, желая с опозданием в четыре с лишним века стереть давний грех, повели разговор о том, что Жанну пора канонизировать, официально причислив к лику святых. Окончательно это было решено только в 1920 году. А пока шли дебаты, Анатоль Франс, крупнейший французский писатель того времени, создал большую документальную книгу о Жанне, подвергнув критическому исследованию свидетельства ее современников и развеяв миф, утверждавший, что она и впрямь была ясновидящей и общалась с ангелами. И в пьесе англичанина Бернарда Шоу, с которым Твен был дружен в последние годы жизни, Жанна изображалась не юродивой, не фанатичкой, впавшей в экстаз, а рассудительной и упорной крестьянкой, любимой народом, но ставшей жертвой изуверов в сутанах.
В искусстве есть вечные образы — к ним возвращаются поколения художников, и каждый раз перед нами новый Дон Кихот, и Гамлет, и Фауст, и Жанна из Домреми. Книга Твена не похожа ни на одно произведение о Жанне из всех, появившихся и до этой книги, и после нее. Такую Жанну мог создать только Марк Твен.
В журнале книга была напечатана анонимно, как неизвестная рукопись, переведенная с французского, и, лишь выпуская отдельное издание в 1896 году, Твен поставил на ней свое имя. Для чего это требовалось? Уж конечно, не затем, чтобы посмеяться над наивной публикой. Как раз наоборот. Твен знал, что к нему по-прежнему относятся только как к юмористу. И стало быть, в любой его книге примутся отыскивать смешные страницы, забавные эпизоды. А «Жанну» он считал главным делом своей жизни. Хотел, чтобы над ее страницами думали, и плакали, и восхищались героиней, и сострадали ей. Поэтому он и скрыл свое авторство.
Может быть, такими соображениями определялся и выбор формы повествования. Книга была названа «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сеера Луи де Конта, ее пажа и секретаря». Рассказчик принимается за свои мемуары, когда ему пошел девятый десяток. Звезда Жанны, так ярко вспыхнувшая, давно угасла, позади и Столетняя война, и затеянный сразу после ее окончания Оправдательный процесс, который восстановил доброе имя Девы. Никого из ее спутников — ни простолюдинов, ни военачальников, ни королей и епископов, так или иначе причастных к судьбе Жанны, — уже нет в живых. Перебирая слабеющей памятью события своей бурной эпохи, сеер де Конт описывает их так, как и должен был их описать человек средневековья, искренне верующий в знамения и откровения, проклятия и адские муки, небесную волю и загробное воздаяние.
Но у него пытливый ум и неподкупное сердце. Де Конт чуток ко всяческой несправедливости, неблагодарности, низости, предательству — а как часто сталкивалась с ними Жанна на своем недолгом пути! И, размышляя о том, отчего великая жалость и беспримерная любовь к родине, всегда поражавшие его в Жанне, которую сеер Луи знал с самого детства, были вознаграждены клеветой, пытками, костром на руанской площади и бездеятельностью толпы, собравшейся поглазеть, как сожгут еретичку и колдунью, повествователь с обезоруживающей прямотой подводит читателя к проблемам, решающим для нравственного самоопределения каждого человека.
У настоящей Жанны действительно был секретарь, которого ей назначил дофин, будущий французский король Карл VII. Этого человека звали Жан д'Олон. Он служил Деве верой и правдой: записывал ее приказы — сама она, с пяти лет пасшая овец и прятавшаяся в лесу, когда Домреми разоряли англичане и бургундцы, ни писать, ни читать не выучилась, — а в бою всегда был с ней рядом, чтобы защитить от меча и от пули. Судьба разлучила их под Компьеном, когда предательство сделало Жанну пленницей и мученицей. Д'Олон пережил ее, но записок не оставил. Сохранились протоколы обоих процессов — руанского и Оправдательного.
На эти протоколы опирался Твен, как и все, кто писал о Жанне. Сеер де Конт — фигура вымышленная. И Паладин — неудачливый жених Жанны, хвастун, любитель приврать, но человек не знавший страха и безмерно гордый должностью знаменосца ее свиты, — тоже вымышлен. Как и еще один ее надежнейший друг — спасенный Девой от неправого суда и казни солдат богатырского сложения, которого французы шутливо называли Карликом, а англичане боялись, как чумы.
А все другие персонажи носят имена реальных лиц и изображены такими, какими встают со страниц судебных протоколов и хроник XV столетия. Мальчиком Твен однажды подобрал на улице выдранный из какой-то книжки лист, где говорилось о трагедии в Руане. И с той поры его мыслями завладела эпоха Столетней войны — величественная, когда он думал о Жанне, мрачная и жестокая, когда перед ним вставали фигуры людей, предавших ее и осудивших. Он изучил эту эпоху досконально и в своем романе воссоздал ее с наивозможной полнотой, обрисовав и подлинных героев того времени, и его зловещие тени.
Очень разные люди предстают перед читателем твеновской Жанны, но все они необходимы, чтобы приобрел целостность и завершенность образ рисуемого времени. Потому что все они принадлежат этому времени. И лихой, бесшабашный рубака Ла Гир, поддерживавший Жанну в самых дерзких военных операциях, но не осмелившийся нарушить королевскую волю и хотя бы попробовать пробиться к Руану, где святоши с французскими именами и проданной англичанам душонкой вершили свое черное дело. И ненавидевший Деву первый министр Карла VII де Тремуйль, властолюбивый и жадный хапуга, который продал бы всю Францию за жирную подачку от врага. И комендант осажденного Орлеана граф Дюнуа: ему, потомственному аристократу и рыцарю, хватило ума понять, что за Девой стоит народ, и склониться под ее белое знамя с французской короной на фоне лилий. И владелец этой короны Карл — трусливое ничтожество, безвольная игрушка интриганов в шитых золотом камзолах и кардинальских мантиях. И епископ из Бовэ Пьер Кошон, вполне оправдывавший свою фамилию, которая по-французски звучит так же, как слово «свинья», — тот, кто руководил руанскими судьями и выказал дьявольскую изобретательность по части ловушек, расставляемых для Жанны, и мучений, уготованных ей.
Уже в наши дни историки многое уточнили в картине тайной борьбы своекорыстных интересов, политических амбиций и низких страстей, всколыхнувшихся, когда возглавленное Девой войско одерживало одну победу за другой. Твен не знал, что под Компьеном Жанна стала жертвой предателя — им был капитан Флави, формально служивший королю, а на самом деле купленный бургундцами. И что еще раньше, у стен Орлеана, для Жанны был приготовлен капкан, а Дюнуа на ночном совете власть имущих низко отрекся от нее. И что сеть заговоров, приведших к гибели Жанны, хитроумно сплетал внешне очень к ней расположенный монсеньор Реньо, архиепископ Реймский, — могущественное лицо при дворе Карла, соперник де Тремуйля, мечтавший о власти над Францией.
Однако Твен создавал не исторический труд, а роман, основывающийся на подлинных событиях истории. Мимоходом он заметит устами де Конта, что, должно быть, занялся пустым делом. Ведь история «должна сообщать важные и серьезные факты», должна учить. А у него выходят все больше пустяковые рассказы. О том, как Жанна дружила в детстве с волшебниками-лесовичками или как пчелы набросились на бычка, оседланного стариком Дарком, чтобы ехать на похороны, и бычок врезался прямо в погребальное шествие. Как бахвалился Паладин перед подгулявшими солдатами и как после яростной битвы сам де Конт разгонял шпагой призраков, поселившихся в замурованной гостиной дома, где он обосновался на постой.
Этим ироничным автокомментариям нельзя доверять. В «Янки из Коннектикута» подобные юмористические «пустяки» встречались несравнимо чаще и намного органичнее отвечали целям, поставленным перед собой Твеном. В «Жанне» они кажутся лишь вставными эпизодами, дополняющими картину истории. Де Конт не раз задумается над тем, что же это такое — история? И где ее справедливость? Отчего, рассуждая про жизнь «нации», король и его окружение всегда подразумевают верхушку, и только ее одну? Крестьяне, народные массы для них не лучше тяглового скота — пусть себе добывают «нации» пищу и другие блага, а всеми делами будет распоряжаться узкий круг тех, кто носит титулы и звания.
А ведь в действительности Франция — это народ. Лишь народу дано истинное право вершить судьбы страны, и когда-нибудь он еще воспользуется этим правом, пусть сейчас деревни разорены, нищие городские кварталы пришли в полное запустение, а их жители не помышляют ни о чем, кроме передышки от нескончаемых бедствий войны. Да, народ темен и забит, его поверья убоги и жалки, а радости ничтожны и мимолетны. Но никуда не исчезли, не могут исчезнуть искони ему присущая вера в добро и жажда нравственной правды, за которую не жалко пожертвовать всем, даже жизнью.
И Жанна для ее секретаря — для самого Твена, конечно, — истинная святая по очень простой причине: «Она вышла из народа и знала народ... Прочна лишь та власть, которую поддерживает народ; стоит убрать эту опору — ничто в мире не спасет трон от падения». Так шатался трон Карла, пока Жанна, высоко подняв свое знамя, не выступила на защиту напрасно ею боготворимого «милого дофина» и своими победами, своим самоотверженным горением не завоевала ему поддержку народа, а уж затем — и коронацию в Реймсе, чего требовал освященный веками закон. Так задрожал престол английского короля Генриха VI, когда французы, десятилетиями расколотые на враждующие партии и занятые братоубийственной войной, объединились в патриотическом порыве, вдохновленном великим примером Жанны. Так всегда будет повторяться в истории.
Де Тремуйль, Реньо, Кошон и вся их свора, какому бы флагу они ни служили, ненавидят Жанну, потому что знают: ей, за которой стоит народ, принадлежит истинная власть, присвоенная ими лишь на время. И современникам, и потомкам казались чудом свершения простой крестьянской девушки, в считанные месяцы решительно изменившей ход войны, которая тянулась уже целый век. А Жанна была убеждена, что только исполняет миссию, открытую ей голосами ангелов. «Когда сражается сам господь, не все ли равно, какая рука держит меч — сильная или слабая?»
Она была человеком средневековья, простодушным и непоколебимым в своей вере. Но языком той эпохи она выразила мысль, важнейшую для Твена и подтвержденную всем опытом человечества: народ победить нельзя. Чудеса, в которых руанские судьи усердно отыскивали колдовство и козни дьявола, на деле были земным подвигом народа, ведомого Девой.
А подвиг Жанны поразителен. Она заставила англичан разжать тиски, туго стянутые вокруг Орлеана. В кровавом сражении при Патэ она разгромила основные силы противника, без единого выстрела вынудила капитулировать неприступную крепость Труа и совершила триумфальный марш к Реймсу, где Карл был провозглашен законным королем. Лишь интригами придворных и преступной беспечностью вчерашнего дофина был сорван ее план овладеть Парижем, что означало бы немедленное освобождение Франции. Одно ее появление под стенами занятых врагом городов вселяло неодолимый страх в сердца английских солдат и удесятеряло силы французов, которые, по словам Ла Гира, еще вчера испугались бы курицы, а теперь были готовы штурмовать хоть врата ада.
Великая в бою, она была еще более великой в умении воодушевлять отчаявшихся. С детства не выносившая вида крови, она ушла на войну, зная, что таков ее долг, но ни разу меч Жанны не добил поверженного, не причинил горя и страдания обездоленным. Ее секретарь пишет: «Эта война была настоящим людоедом, который почти сто лет разгуливал на воле и перемалывал людей в своей кровавой пасти. И вот семнадцатилетняя девочка сразила его своей маленькой рукой — и он лежит на поле Патэ, и, покуда стоит наш старый мир, ему уже больше не подняться».
В этом де Конт, к сожалению, глубоко ошибся — людоеду предстояли куда более пышные пиры, вплоть до наших дней. Но Жанна воевала не ради упоения битвой. Не для воинской славы. Не для почестей. Она сражалась за свою поруганную родину, за справедливость, за то, чтобы война перестала опустошать французскую землю.
И в этом ее немеркнущая слава.
А кроме славы, была еще и награда.
Жанну обманом и предательством возьмут в плен бургундцы и за немыслимые по тому времени деньги уступят англичанам, чего особенно добивался кардинал Винчестерский, оспаривавший у монсеньора Реньо роль остающегося в тени, но подлинного властителя католического мира. И она выдержит томительные месяцы ожидания суда в темнице, где пленницу, закованную в цепи, ни на минуту не оставляли наедине с самой собой, и допросы, напоминающие пытку, и происки подсылаемых к ней шпионов в сутане, и неравный поединок с Кошоном, который любой ценой намеревался вырвать у Жанны отречение, чтобы получить обещанный ему за это крупный церковный чин.
Она будет сожжена на костре 30 мая 1431 года, девятнадцати лет от роду. До последнего мига Луи де Конт и еще один сподвижник Жанны, Ноэль Рэнгессон, пробравшиеся в Руан, будут с надеждой отчаяния ждать, что протрубит за углом в свой рог храбрый Ла Гир, или появится на взмыленном коне гонец, привезший выкуп от короля, или толпа, собравшаяся развлечься зрелищем казни, сметет стражу, растерзает Кошона и вызволит Деву из страшной беды. Но ничего этого не случится. Кошон и его хозяева отпразднуют свое мрачное — они еще не знают, насколько недолгое, — торжество. Высокий столб черного дыма взметнется над руанской рыночной площадью, послышится в последний раз голос Девы, громко читающей молитву, а потом палач, сняв обуглившееся тело, швырнет останки Жанны в зеленые воды Сены.
«Мы были молоды, да, очень молоды», — скажет об этом дне де Конт, на склоне лет вспоминая собственные молчаливые призывы к благодарной Франции, которая должна была ринуться на проклятый город, точно неудержимый океанский прилив, и спасти, освободить свою воительницу. Теперь он смотрит на вещи проще и мудрее, понимая, что бедняки не могли дать Жанне ничего, кроме моления о безотлагательном вмешательстве свыше. А Карл, этот венценосный осел, окруженный святошами и проходимцами, менее всего желал возвращения Девы. Она уже возвела его на царство. И стала слишком опасной. Ведь французские полки вело на битву ее знамя. За Деву — не за короля — шли они на смерть.
Но все равно стоит перед глазами рассказчика тот трагический день; и молчание толпы, ее бездействие, когда палач подносит пылающую головню к хворосту, наваленному вокруг позорного столба, останется самым сильным впечатлением от книги, хотя Твен вложил в уста де Конта немало пламенных слов о деяниях Жанны.
Патетика не убеждает, да она в данном случае и не нужна, потому что истинной наградой крестьянской девушке из Домреми стала неслабеющая память народа. Для Твена — по всему характеру его взглядов и творчества — важно, что Жанна еще почти ребенок: и в дни своей славы под Орлеаном и Патэ, и в дни мученичества на руанском процессе. Она — точно бы сама юность. И поэтому она прекрасна.
Детьми были принц Эдуард и Том Кенти, а Хэнку Моргану все королевство Артура представлялось «огромной детской». В «Жанне» эта любимая мысль писателя: только подросток, еще не вкусивший отравленных плодов взрослой жизни с ее двоедушием и практичностью, способен оставаться человеком, каким тот создан природой, — выражена отчетливее, чем в любом другом произведении Твена.
Этой отчетливости помог сам материал книги. В резком свете истории с необычайной ясностью проступали испытанные опытом истины о сущности человека. И, осмысляя уроки истории, Твен уже остерегался утверждать, как прежде, что человек неизменно прекрасен, а уродливы лишь порядки, существующие в обществе. Он теперь твердо знал, что эти порядки создает сам человек, а значит, сам за них отвечает. И уродства общества способны порождать низость и гнусность, малодушие и интриганство. И народ — это не абстракция, а реальные люди, которые способны становиться настоящими героями, но точно так же и толпой — равнодушной и жестокой.
«Жалкий род человеческий», — слова, вырвавшиеся у де Конта, Твен повторит еще не раз в своих последних книгах. Но и в них сквозь сумрачные настроения будет пробиваться пламя великой любви и великого гнева, навеки обессмертивших имя Жанны д'Арк, чей образ будет жить в душе Твена до самого конца.
Примечания
1. Здесь — рыцари из свиты короля.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |