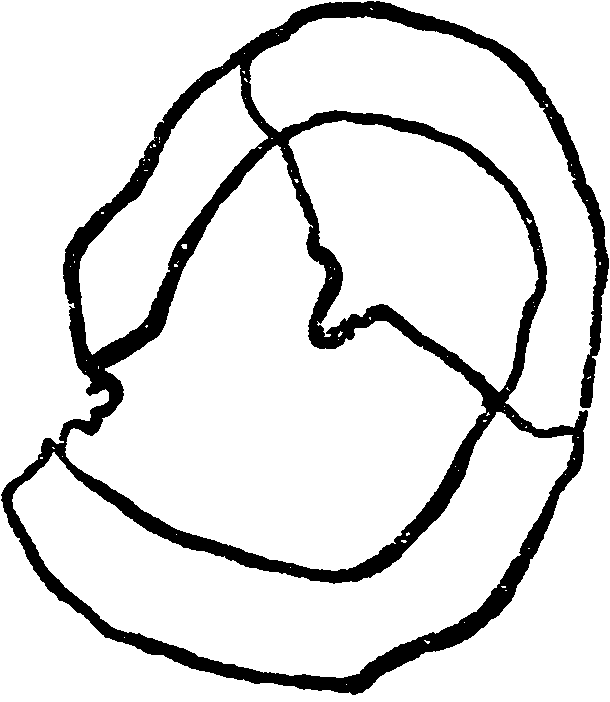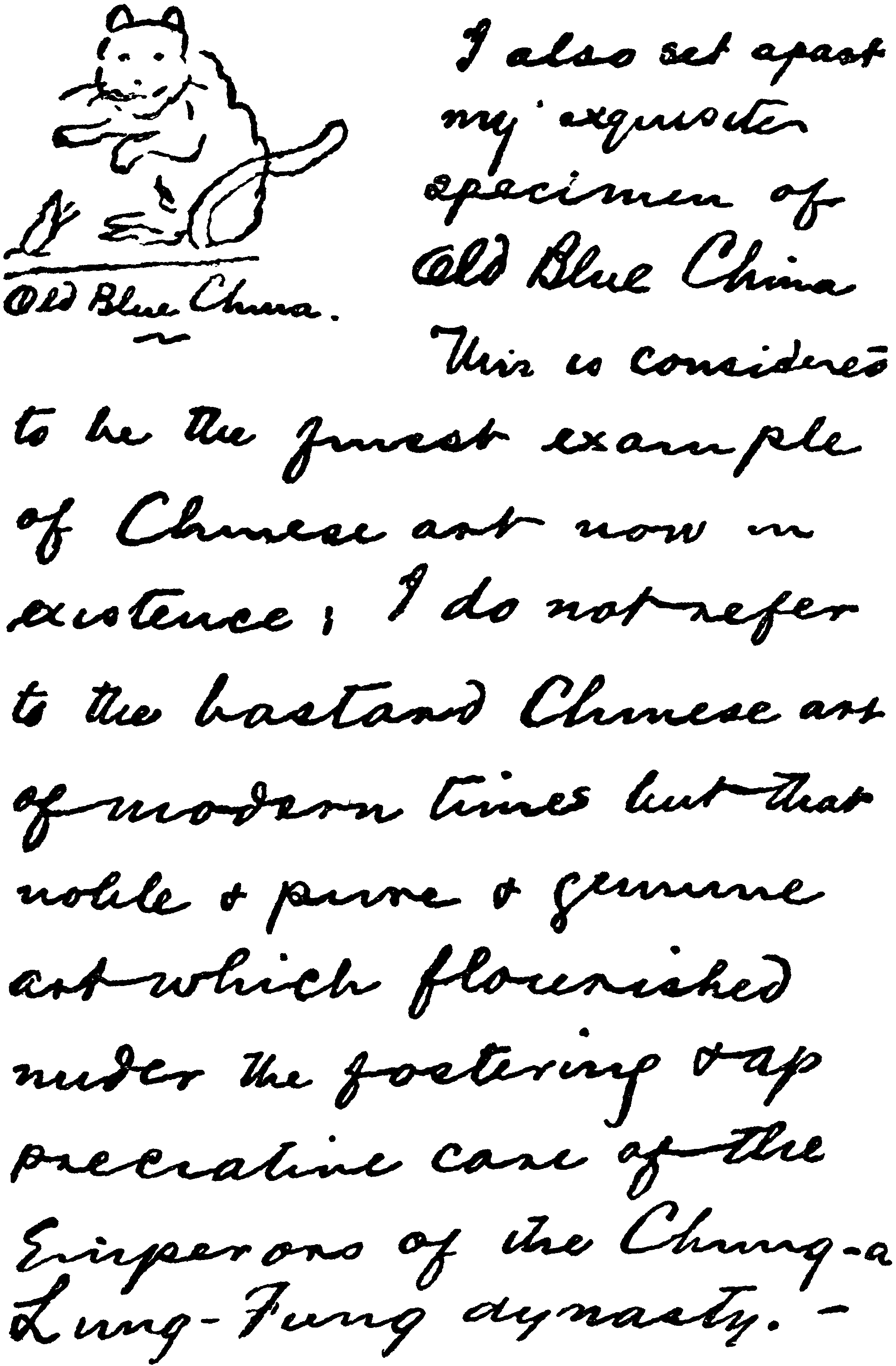Утро порадовало нас приятной новостью: наконец-то из Гамбурга пришли наши чемоданы. Да будет это предостережением читателю. Немцы — народ добросовестный, отсюда их крайняя щепетильность. Скажите немцу, что вы просите его сделать что-то немедленно, и он поверит вам на слово, он поймет вас буквально и не станет медлить, — конечно, медлить в его понимании, а это значит, что он примется за дело этак через недельку, если речь идет о шитье костюма, или через час, если вы заказали к обеду форель. Прикажите ему послать ваш багаж «малой скоростью», и он опять-таки поймет вас буквально: он пошлет багаж «малой скоростью», и прежде чем вы его получите, у вас будет без счету времени, чтобы поминать всех немцев добрым словом и удивляться, до чего же оно меткое, это выражение, до чего же оно бьет в точку! Мой чемодан был молод и кудряв, когда я сдавал его экспедитору в Гамбурге, а в Гейдельберг он явился плешивым старцем. Но все же он цел и невредим и даже нисколько не помят, — и на том спасибо; носильщики в Германии, и правда, народ добросовестный, им можно что угодно доверить. Ничто теперь не задерживало нас в Гейдельберге, и мы стали готовиться в дорогу.
Первой моей заботой была, разумеется, моя коллекция керамики. Везти ее с собой было бы рискованно и обременительно. Я спрашивал, как тут быть, но мнения знатоков и любителей разделились. Кто предлагал все упаковать и свезти на склад; кто советовал обратиться в Герцогский музей в Маннгейме с просьбою принять мои вещи на хранение. Угождая и тем и другим, я разделил свою коллекцию и отложил для музея все самое ценное и хрупкое.
Этрусская слезница
В первую очередь, разумеется, мою этрусскую слезницу. Я зарисовал ее здесь для вас. Темное пятно, ползущее по ее стенке, не жук, а просто дырка. Я приобрел этот кувшинчик у антиквара за четыреста пятьдесят долларов. Он представляет собой большую редкость. По словам антиквара, этруски хранили в таких кувшинчиках слезы и прочее тому подобное, и мне еще повезло — ухватить даже такой разбитый кувшинчик сейчас почти невозможно. Я также отложил мое блюдо Анри II (смотри прилагаемый рисунок карандашом; в общем схвачено верно, я только, пожалуй, слегка укоротил одну сторону). Это чрезвычайно редкий и красивый экземпляр, изысканный и своеобразный по форме. На нем богатая роспись, которую я не в силах здесь воспроизвести. Блюдо обошлось мне еще дороже, чем слезница, — и не удивительно: по словам антиквара, другого такого блюда нет на свете. На рынке, сказал он, сколько угодно поддельных Анри II, в то время как подлинность моего экземпляра не подлежит сомнению. Антиквар показал мне и родословную блюда — или его, если угодно, жизнеописание; в этом документе отражена вся история блюда со дня его рождения: кем оно куплено, у кого, и за какую сумму, — начиная от первого покупателя и кончая мной; из документа явствует, что цена блюда неуклонно повышалась — от тридцати пяти центов до семисот долларов. Весь собирательский мир, сказал антиквар, будет знать, что блюдо теперь у меня, и возьмет себе на заметку как имя владельца, так и уплаченную сумму.
Блюдо Анри II
Я также отложил для музея мой изумительный образец старинного синего китайского фарфора. Но мнению знатоков, это лучший образец китайского искусства, известный нашему времени. Я, конечно, имею в виду не упадочное искусство современного Китая, а благородное, чистое и подлинное искусство, процветавшее под попечительной и просвещенной эгидой императоров династии Чунг-а-Лунг-Фунг.
Поистине, великие были когда-то мастера, но, увы, то время миновало! Разумеется, главное достоинство этой вещи в ее колорите. Это древний, насыщенный, сочный, доминирующий, интерполирующий трансборейский синий цвет, над тайною которого напрасно бьются современные художники. Мой маленький эскиз, сделанный с этой геммы, не дает о ней должного представления, поскольку я не воспроизвожу колорит. Зато мне вполне удалось передать выражение.
Впрочем, не буду утомлять читателя такими подробностями. Я и не думал в них вдаваться, но такова уж природа истинного собирателя или истинного служителя культа безделки: стоит ему коснуться — языком или пером — излюбленной темы, как он пойдет сусолить все про одно и то же до полного изнеможения. Он так же нечувствителен к полету времени, как влюбленный, рассказывающий о своей красавице. Какая-нибудь «марка» на донышке редкостного черепка повергает его в восторженное многословие; что до меня, то я готов кинуть на произвол судьбы тонущего родственника, лишь бы не пропустить дискуссии о том, должны ли мы считать пробку отошедшего к праотцам флакона для благовоний Buon Retiro подлинной или поддельной.
Многие полагают, будто для зрелого мужчины эта охота за безделками примерно такое же здоровое занятие, как шитье кукольных юбочек, или сведение переводных картинок на цветочные горшки; эти зоилы готовы грязью закидать некоего Бинга, элегантного англичанина, выдавшего в свет книжицу под названием «Охотник за безделками»; они смеются над ним, говоря, что он, не помня себя, гонится за всякой, как они выражаются, «смехотворной дрянью», а потом проливает над своими сокровищами «слезы энтузиазма»; за то, что он еще и похваляется своим «истовым младенческим восторгом» перед этим, по их словам, «жалким собранием нищенского хлама»; и за то, что книжке он предпослал собственный портрет, где изображен сидящим «в тупой, самодовольной позе посреди своей убогой лавчонки старьевщика».
Легко выносить подобные приговоры, легко глумиться над нами, легко нас презирать, а потому пусть смеются люди: если им недоступно то, что чувствуем мы с Бингом, тем хуже для них. Что до меня, то я доволен своим призванием ветошника и хламовщика; более того — я горжусь, когда меня так называют. Я горжусь тем, что так же теряю рассудок перед редкостным кувшином, на донышке которого выжжено знаменитое клеймо, как если бы я только что осушил этот кувшин. Итак, я уложил и сдал на склад добрую половину моего собрания, остальное же, испросив разрешения, отвез в Герцогский Маннгеймский музей. Моя синяя китайская кошечка и ныне там. Я пожертвовал ее этому превосходному учреждению.
Была у меня только одна неприятность с вещами: при укладке разбилось яйцо, которое я нарочно отложил за завтраком. Судите же о моем огорчении! Я показывал его лучшим гейдельбергским знатокам, и все они заявили, что это настоящая древность. Дня два ушло у нас на прощальные визиты, а затем мы махнули в Баден-Баден. Это была приятная прогулка — Рейнская долина всегда хороша. Жаль только, что удовольствие быстро кончилось. Если память меня не обманывает, дорога заняла два часа — значит, проделали мы около пятидесяти миль. В Оосе мы вышли из поезда и остальное расстояние до Баден-Бадена прошли пешком, — только лишь на часок подсели на попутную телегу, так как стояла изнурительная жара. Зато в город мы вступили пешком.
Одним из первых, кто попался нам на улице, был его преподобие мистер N*** — наш старинный американский друг; поистине счастливая встреча, ибо мистер N*** на редкость располагающий, приветливый, отзывчивый человек, чье общество и беседа всегда действуют освежающе. Мы знали, что он уже некоторое время обретается в Европе, но никак не рассчитывали с ним повстречаться. С обеих сторон посыпались восторженно любовные возгласы, и его преподобие мистер N*** сказал:
— У меня, конечно, полный мешок новостей, которыми я жажду с вами поделиться, и такой же пустой мешок, готовый принять ваши новости; давайте же посидим до поздней ночи, поговорим на свободе, а то завтра спозаранку мне уезжать.
На том и порешили.
Все это время у меня было чувство, будто кто-то незнакомый бежит рядом по мостовой, стараясь не отстать от нас. Я раза два украдкой оглянулся и увидел красивого молодого широкоплечего верзилу с открытой независимой физиономией, оттененной чуть заметным рыжеватым пушком, и одетого с головы до пят в прохладное, завидно белоснежное полотно. По тому, как он держал голову, мне показалось, что он нас подслушивает. Тем временем мистер N*** сказал:
— Чем толкаться втроем на тесном тротуаре, лучше я пойду сзади; но говорите, пожалуйста, говорите, не теряйте драгоценного времени, а уж я в долгу не останусь.
Однако, едва он пропустил нас вперед, белоснежный верзила тут же приладился к нему, хлопнул его по плечу широченной ладонью и с неподдельной сердечностью в голосе певуче произнес!
— Американцы — два доллара с половиной против одного — и деньги чистоганом! Что, угадал?
Его преподобие поморщился, но ответил со всей кротостью:
— Да, мы американцы.
— Господи благослови, так ведь и я американец, самый что ни на есть, без обману! Будьте благонадежны!
И он протянул пастору свою ладонь, обширную, как Сахара; маленькая ручка его преподобия бесследно потонула в ней, и мы услышали, как на ней лопнула перчатка.
— А что? Здорово я вас углядел?
— О да!
— Ну еще бы! Вы только рот раскрыли, как я признал вас за своего. Давно вы здесь?
— Месяца четыре. А вы давно?
— Я? Давно ли? И не спрашивайте! Скоро два года, будь они неладны! Соскучились по дому?
— Не успел еще. А вы?
— О, дьявол, да! — Он произнес это с сокрушительной экспрессией.
Его преподобие слегка поежился, и мы скорее угадали чутьем, чем восприняли чувствами его сигналы бедствия; но не стали ни вмешиваться, ни выручать его, забавляясь тайком этой сценою.
Верзила между тем схватил его преподобие под руку и с доверчивым и счастливым видом беспризорного сиротки, стосковавшегося по другу и сочувственному вниманию, по счастливой возможности вновь окунуться в стихию родного языка, дал, наконец, себе волю — да с каким еще смаком! Речь свою он пересыпал словами, не допущенными к обращению в воскресной школе, так что я вынужден местами прибегнуть к многоточию.
— Да, скажу я вам! Если уж я не американец, значит, американцев выдумали и их нет на свете. И когда я услышал, как вы, ребята, знай, лопочете на самом что ни на есть добротном американском языке, я... чуть не задушил вас, честное слово! Я себе тут весь язык обломал об эти их... богом забытые, отпетые девятиэтажные немецкие слова. Какое же это счастье, знаете, подержать снова на языке простое христианское слово, вроде как бы впитать его запах и вкус. Сам я из Нью-Йорка. Зовут меня Чолли Адамс. Я, знаете, студент. Учусь на коновала. Маюсь здесь уже два года. В общем, дело это по мне, но уж и... публика здесь — учить человека на его собственном родном языке, их, видите ли, не устраивает, — нет, одолей сперва этот их... немецкий; и вот, прежде чем взяться за ветеринарную грамоту, пришлось таки мне засесть за их несчастную грамматику. Ну, думал я, вгонит она меня в гроб, но ничего, обошлось. Взялся, знаете, засуча рукава. Так ведь представьте, они теперь латынь с меня требуют! Между нами говоря, я за этих латинщиков с их тарабарщиной ни... не дам; я уже решил: как одолею эту премудрость, тут же сяду и выкину ее из головы. Много времени у меня это не возьмет, да и не жалко мне времени. И вот что я вам скажу: как у нас учат и как здесь учат — это небо и земля. У нас понятия не имеют об учебе. Тут ты долбишь, и долбишь, и долбишь, прямо нет спасения, все, знаете, надо выучить назубок, а то наскочит на тебя какой-нибудь... хроменький, очкастенький, горбатенький старый хрыч да как начнет из тебя жилы тянуть... Нет уж, хватит с меня удовольствия, душа не принимает. А тут еще пишет мне родитель, чтоб я ждал его в июне, он в августе заберет меня домой, — все равно, закончил я образование или нет; а сам взял и не приехал, чтобы ему икалось на том свете! И ведь ни словом не объяснил почему, только шлет мне кучу душеспасительных книжонок, приказывает быть паинькой и еще немного потерпеть. Ну а меня не тянет на пост, я скушал бы лучше что-нибудь скоромное, если есть такая возможность, — но все равно, читаю, — давлюсь, а читаю, потому с моим стариком шутки плохи, он, если что втемяшит себе в голову, значит умри, а сделай. Засел я за эти книжки, уминаю их, знаете, одну за другой, раз уж он требует, — но без всякого, между прочим, интереса, — я люблю, чтобы книжка за сердце брала. А все равно скучаю по дому, как паршивый пес. Такая тоска заела, что даже в крестец ударяет, а из крестца в ноги. Ну а толку что? Хочешь не хочешь, а жди, пока старик умилостивится и вытребует тебя домой. Да, сэр, попал я в переделку, торчу здесь, в этой... стране, жду, пока отец скажет: «Приезжай!», и вы, Джонни, можете прозакладывать свой последний доллар, что это потрудней, чем кошке родить двойню!
Добравшись до конца этого богохульственного и простодушного излияния, он издал оглушительное «уфффф!» — отчасти для прочистки легких, отчасти как дань жаре — и тут же, с места, вновь ринулся в свой рассказ, не дав бедному «Джонни» опомниться:
— Да... ничего не скажешь, в некоторых наших заслуженных американских выражениях есть, знаете, ли, эта силища, этот размах, в них можно отвести душу, можно выразить то, что накипело, знаете...
Когда мы подошли к гостинице и наш молодец увидел, что рискует потерять собеседника, он так искренне огорчился и так настойчиво и убедительно стал просить пастора не покидать его, что тот не устоял и, как истинный христианин, поплелся с почтительным сынком к нему на квартиру, отужинал с ним и стоически просидел в кипучем прибое его просторечия и божбы до полуночи, когда они наконец расстались... Студенту удалось выговориться, и он заметно посвежел, за что и остался благодарен его преподобию всей душой и «всеми потрохами», как он выразился. По словам пастора, в разговоре выяснилось, что отец Чарли Адамса — крупный лошадиный барышник в Нью-Йорке, почему он и выбрал для сына профессию ветеринара. Его преподобие вынес самое благоприятное впечатление о «Чолли», как о крепком малом, из которого со временем может выйти добрый гражданин; по его определению, это алмаз, — пусть и неотшлифованный, но алмаз тем не менее.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |